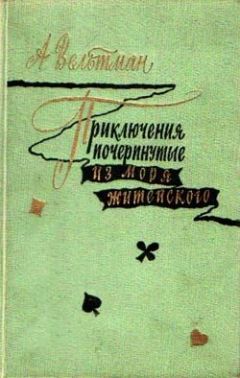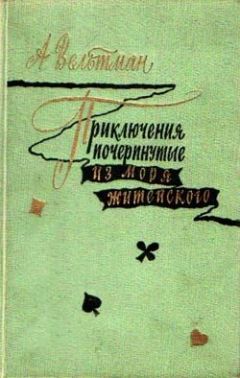— А, дьявол, обманул! — простонал снова Черномский и вдруг вскочил с дивана, бросился на Дмитрицкого; но тот очень хладнокровно приподнял пистолет и сказал:
— На место!
Черномский со страхом отскочил назад.
— Послушай! — проговорил он дрожащими губами, — послушай, пан Дмитрицкий…
— Пан грабе Черномский, слышишь? Покуда на голове моей этот парик, — сказал Дмитрицкий, приподняв на себе парик, как шапку, — и покуда под носом эти наклейные усы, до тех пор я граф Черномский, шулер, подлец, который с шайкой своей наверняка обдул бедного Дмитрицкого. А ты, до тех пор, покуда я не награжу тебя рыжим париком и серым фраком, до тех пор ты хлап Матеуш.
— Одно слово, пан! — сказал пан Черномский, задыхаясь и кусая губы, — бесчестно это, это низко, воспользоваться моею доверенностью! Я полагал, что пан Дмитрицкий благородный человек!..
— А кого ж обманул пан Дмитрицкий?
— Меня!
— А ты кто такой?
— Кто?… я пан…
— Ну, ну, ну, договаривай скорей!
— Пан грабе Черномский.
— Врешь! ты знаешь ли кто? Черномский побледнел.
— Пан грабе Черномский вот этот парик, — продолжал Дмитрицкий, — а пан Желынский вот этот парик; а пан Дмитрицкий нанялся на службу к вельможному пану Черномскому, а не к тебе, не пану, а лысому болвану! Как же ты смеешь говорить, что пан Дмитрицкий тебя обманул?
— Пан Дмитрицкий, — сказал Черномский, — не я обыграл пана, даль буг же[94] не я; но я готов из своих денег возвратить пану десять тысяч.
— Скажи пожалуйста, какой богач!
— Будь ласковый, пане, кончим шутки… Отдай, пане, мои ключи.
— Да ты кто?
— Перестань, пане, шутить… получай десять тысяч, и бог с тобой.
— А я с тобой вот как шучу: хочешь ты у меня служить Maтеушом? Я люблю это имя: у меня, пана грабе, все люди назывались Матеушами… хочешь? а не то — убирайся!
— Я прошу пана оставить шутки; а не то я объявлю полиции, что пан хочет ограбить меня и убить.
— Так ты ступай в полицию скорей, а не то я уеду… Ну, пошел же!
— Пане, я двадцать тысяч дам.
— Ба, уж рассветает! Пора ехать мне! Эй! кто там?
— Пане! — вскричал Черномский. — Прочь!
— Что угодно пану? — спросил вбежавший хозяин.
— Вот тебе за постой, — сказал Дмитрицкий, бросив красную бумажку на стол. — Неси сундук в коляску.
— Пошел, я сам понесу! — вскричал Черномский, совершенно потерявшись, — ступай вон!
— А, мерзавец, одумался! Жид, помоги ему; где ему дотащить до коляски.
— Караул! грабят! — вскричал Черномский как сумасшедший, оттолкнув жида и обхватив сундук, — караул!
— Хозяин, ступай к городничему, чтоб прислал солдат взять этого пьяницу! Скорей!
— Не буду! — проговорил Черномский, задыхаясь, — я понесу! Ступай, мне нужно поговорить с паном.
— Ни слова!
— Пане!
— Ну!
— Я понесу, понесу!
— Жид, тащи вместе с ним!
Черномский и жид понесли сундук в коляску. Черномский нес и стонал.
Вслед за ними вышел и Дмитрицкий.
— Ну, живо! — вскричал он, садясь в коляску. — Ты так и поедешь без фуражки, в одной рубашке? дрянь! ну, пошел, надень сюртук и фуражку!
— Панья матка бога! — проговорил Черномский жалобным голосом, держась обеими руками за коляску.
— Ну, долго ли будешь думать? Ямщик, пошел! Ямщик приподнял кнут.
— Караул! — вскричал Черномский, ухватясь за коляску, — постой, постой, еду! Вынеси, хозяин, картуз да сюртук мой.
— Ах ты, дурак, трус; боится, что я уеду, брошу его! Черномский охал, держась за коляску.
Жид вынес венгерку и картуз.
— Не мой сюртук, — сказал Черномский, — это венгерка пана.
— Не узнает своего платья! вот нализался! Долго ли я буду ждать? Куда? на козлы!
— Нет, этого уж не будет! — вскричал Черномский, — я не хлап какой-нибудь.
— Так оттащи его, жид; прощай, пан!
— Еду, еду!
И Черномский взобрался со стоном на козлы.
— Пошел! — крикнул Дмитрицкий, — болван! думает, что я с ним не справлюсь! Нет, брат Матеуш, заикнись только у меня, ступи не так, — не пожалею медного лба! мне, брат, все равно, семь бед один ответ… Хочешь служить верой и правдой — служи, а вздумаешь проказить, грубиянить, пьянствовать, подниматься на какую-нибудь штучку, чтоб опять парик надеть; так тогда уж извини — на все пойдет!.. Слышишь ты там?…
Черномский в ответ простонал.
«Э! да куда ж я еду? — спросил Дмитрицкий сам себя, — куда ж мне ехать? а? вот вопрос». — Эй, ямщик, куда идет эта дорога?
— Да в Могилев же, в Могилев.
— А что ж я буду делать в Могилеве? А еще куда?
— Из Могилева в Минск, да на Смоленск.
— А что ж я буду делать в Минске и в Смоленске? Мир велик, а прислониться негде, и ни одной души, которой бы можно было сказать откровенно: послушай, душа моя, поверишь ли ты мне, что я ужасная свинья. «Неужели?» — Ей-ей! черт сбил меня с пути, и вот, сам не знаю, что делать на белом свете. — «Женись». Да не знаю, где живет невеста, — куда к ней ехать? Родилась ли она, жива, или умерла, ничего не знаю. Другим как-то счастье: все само ладится. Уж если влюбится и навяжется на шею, так по крайней мере девушка, а не чужая жена, как, например, Саломея Петровна. Уверила, что я создан, собственно, для нее, а она для меня, я и поверил, да и увез ее. Что ж из этого вышло? она на стороне, я на другой… А желательно было бы знать, что с ней делается: где она? что она?… Удивительный характер! Поскакала от мужа, от отца, от матери, черт знает куда, точно как из гостей домой!.. Отец и мать!.. Господи боже мой, отец и мать!.. Я бы поехал теперь к отцу и матери… «Здравствуй, Вася, здравствуй, сынок!» У Васи сердце бы порадовалось, Вася бы заплакал. «Это что у тебя? где это ты нажил?» — «Бог дал». — «Ах ты мое нещечко», — сказала бы матушка и заплакала бы с радости. «Врешь, брат, — сказал бы отец, — верно, ты черту служишь!» — и заплакал бы с горя… Да это все мечта: батюшка умер давным-давно, а матушка недавно скончалась… Э! Да у меня есть тетка и сестра невеста… Верно, в бедности живут… Вот случай осчастливить Наташеньку… прекрасно!..
Дмитрицкий стал развивать и лелеять эту мысль в голове.
Приехали на станцию.
— Матеуш! — крикнул Дмитрицкий, — распорядись скорей о лошадях.
— Нет, пан, — отвечал Черномский, соскочив с козел, — лошадей успеют запрячь; прежде всего надо решить, кому пановать на этом свете; если пан благородный человек, то не откажется на мой вызов… пара пистолетов есть…
— Изволь, брат, пойдем! вот тут же в рощице. Только не иначе, как оба заряда в один пистолет; а потом выбирай любой; но подлецу я в руки не дам пистолета, а сам, одним дулом себе в пузо, а другим тебе.