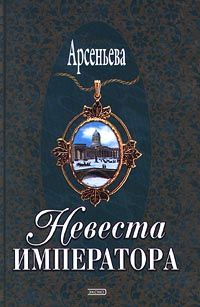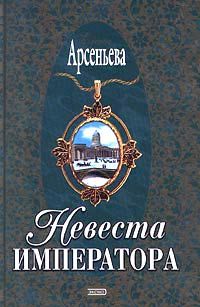Потом начались танцы. Потом царь простился с невестою и новыми родственниками, велел всем продолжать веселиться без него и уехал… с Иваном Долгоруковым в Петергоф, на охоту.
Она протанцевала с женихом всего лишь раз, прежде чем он сорвался на охоту, будто школяр – с надоевшего урока. Конечно, отрок, мальчишка, но все заметили, что царь при столь важном событии своей жизни не показал той нежности, какую можно было бы требовать от жениха к невесте. Сбежал после первого же танца, хотя общеизвестно, что танцы служат для начала всякого романа и сближения самым могущественным основанием. И эта вертихвостка, красотка рыжая, цесаревна Елизавета, унеслась вместе с ним, так высоко подобрав юбки, чтоб не мешали быстро бежать, что ее стройные ножки, обтянутые наимоднейшими зелеными чулочками с золотыми, серебряными и желтыми стрелками, открылись чуть не до колен к восторгу всех, кто это видел. Ну что ж, хоть Мария и ощущала всей кожею ненависть к себе этой цесаревны с бойкими глазами, а все ж не могла не признать, что Елизавета – само удовольствие, пыл чувств и страстей. От нее бы, небось, жених не сбежал! Мария мрачно думала об этом, когда Петр Сапега склонился перед своей бывшей невестою и нижайше пригласил ее в менуэт.
Мария медленно пошла с ним. Ощутив значительное пожатие его пальцев, почувствовала себя неловко и смешно, а ведь Сапега, конечно, хотел пробудить в ней память о былом! Она взглянула на него с весьма холодным духом, и во рту стало как-то… железно, словно объелась варенья или другого сладкого. Ежели б она не влюбилась в Сапегу заочно, лишь по слухам, то никогда не смогла бы очароваться этой приторной красотой – теперь это сделалось ей вполне ясно. Просто удивительно, как больно поразило Машу, что Сапега, обещавший всенепременно умереть, «когда б жестокие небеса лишили его любви Марии», так легко отступился от нее по приказу императрицы, даже не сделав попытки бежать с ней, хотя это было делом в ту пору весьма распространенным. Сапега отговорился невозможностью ослушаться государыни, но теперь-то Мария знала, что он всего лишь боялся прогневить щедрую любовницу, ибо покойная Екатерина жаловала и отца, и сына.
Маша заученно раздвинула губы в улыбке – хотя улыбка сия была исполнена уныния и печали.
Сапега, коему она предалась всем пылом юного сердца, отвернулся от нее по одному мановению властительной руки. А мальчик, назначенный ей в мужья, умчался гонять по полям, по лесам, не проявив к невесте и доли той нежности и любезности, каких от него ожидали хотя бы из соображений учтивости!
«Ах, да нужна ли мне его учтивость! – едва не заломила Маша руки в отчаянии. – Нежность его, любезность притворная – мне на что?! Любви надо мне, истинности чувств! Ужели все мужчины не умеют любить и не бывают постоянны?!»
Она зло выдернула руки из чересчур уж осмелевших пальцев Сапеги и испытала легкое подобие удовольствия, увидав, как он обескуражился и даже струхнул.
– Я устала! – сквозь зубы процедила Мария, и Сапега на подгибающихся ногах отвел ее к креслу. Она не удостоила его взгляда, и он стушевался, с тоскою поняв, что вступление в новую блестящую должность фаворита откладывается, пожалуй, до неопределенного времени.
Мария тут же забыла о нем и вгляделась в толпу, выискивая батюшку. Нетрудно его найти – вон, возвышается над присутствующими, и, чудится, некие незримые волны источаются его взором, голосом, этой его манерою слегка похлопывать собеседника по плечу, как бы подчеркивая, что ничего опасаться не стоит, коли рядом всесильный, всемогущий Александр Данилыч Меншиков… и прочая, и прочая, и прочая.
«Да он и впрямь всесилен! – угрюмо подумала Маша. – После того как Сапегу от меня отняли, все ворчал, награды требовал за урон своей чести – вот и востребовал. А сейчас он здесь, словно повар, да, вот именно, словно повар, который мешает щи: в одну сторону поведет уполовником – и все овощи туда завертятся, в другую – пожалуйста, туда! Вот так он кружит всех – и меня с ними вместе. И какая чушь, будто бы лишь от моего брака с государем зависело его счастье и благополучие! Это для него просто еще один бриллиант в корону… а что его даже и не видно в блеске остальных, так ему сие безразлично… я ему тоже безразлична, и счастие мое, и сердце».
Звонкий, торжествующий смех послышался сзади, и Маша недоверчиво оглянулась, не сообразив, что кто-то может быть нынче радостен и счастлив – в день ее величайшей тоски! Она и глазам своим не поверила, увидав, что сим молодым, счастливым смехом заливается тетушка Варвара Михайловна – столь розовая и возбужденно-суетливая, что даже горб ее как бы стушевался, и теперь она была только маленькой сухонькой уродиной. Она стояла в кружке дам и девиц и задирала к их губам свою ручонку, похожую на цыплячью лапку, причем те, делая на лицах улыбку, покорно принимали ручку Варвары Михайловны и чмокали над ней воздух. Маша тупо смотрела на все это, казавшееся ей сперва какой-то игрой, и не постигая, как же высокороднейшая, хотя и обедневшая Нарышкина позволяет своей молоденькой дочери целовать руку у Варвары Арсеньевой, конечно, не возвысившейся в родовитости благодаря браку своей сестры Дарьи с бывшим конюхом! И вдруг до нее дошло: ручку целуют вовсе не Варваре Михайловне, а обер-гофмейстерине двора ее императорского высочества, государевой невесты! Эти дамы ищут себе или своим дочерям доходных должностей при дворе: ведь именно старой интриганке обер-гофмейстерине предстояло подбирать будущих фрейлин, от нее зависело, кого принять, кому отказать!
«Это ведь все для тебя! – вспомнились теткины слова. – Придет день – сама же меня отблагодаришь!»
Да, как же! Все они здесь, от батюшки и тетушки до глупенькой Нарышкиной, ищут лишь своего счастия, а она, Маша, для них лишь монетка, за которую сие счастие будет куплено… лишь ступенька, на которую они спешат подняться!
Схватилась за горло, желая подавить рыдание, но тут же выпрямилась, вздернув голову. Если даже она умирает, никто не сможет насладиться этим зрелищем!
Маша сделала неприметный шажок назад, потом еще один – и как бы растворилась меж тяжелых портьер, закрывающих двери.
* * *
Она еле дотащилась до своей опочивальни: расшитое серебром да сапфирами платье показалось вдруг нестерпимо тяжелым. И совсем не было предусмотрено, что обладательница этого платья задумает снять его сама: все застежки и шнуровка были на спине. Так что к тому времени, пока Маше удалось что развязать, а что оторвать, но все же выбраться из жестоких парчовых лат, она была порядком измучена, а настроение отнюдь не улучшилось.
Юбка, из которой она с отвращением выскочила, так и осталась стоять колом посреди комнаты, корсаж загремел, будто жестяной, когда Маша швырнула его в угол… Даже тонкое дорогое белье сделалось вдруг противным, и Маша содрала с себя батистовую расшитую рубашку, надев не менее тонкую и дорогую, но не оскверненную «соучастием» в отвратительной церемонии обручения.