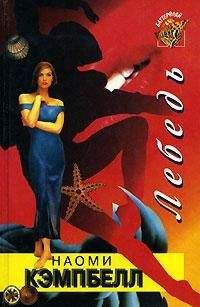Конрад бросил на него быстрый нервный взгляд.
— Нет, я не говорил ей о помолвке. Но относительно моей власти вы ошибаетесь. Я отец Софи, и у меня есть полное право руководить ее жизнью.
— Да, когда она была ребенком, но не теперь, когда она взрослая.
— Софи не просто взрослая. Она стала знаменитостью, которой не прочь воспользоваться самые разные люди. Я контролировал траст, который был учрежден для нее после смерти ее матери, он включает и «Белого лебедя», что дает мне право принимать решения, когда речь идет о ее делах.
— Почему вы до сих пор ничего не сообщили ей об этом трасте?
Конрад скривился.
— Я думал о других вещах.
— Ясно. — Грейсон не мог больше сдерживаться. — Ведь это ваша дочь!
Но Софи не единственная моя дочь!
— Ах да. Ваша новая семья. Как я мог забыть!
Конрад покраснел и заявил, желая оправдаться:
— Я дал Софи шанс осуществить ее мечту стать музыкантом. Она в этом преуспела. Доказательство тому — эта статья в журнале. Но теперь ей пришло время вернуться домой и попытаться создать себе нормальную жизнь. Ведь она женщина. Не будет же она вечно играть на виолончели! Больше того, она не может разъезжать по свету с кучкой прихлебателей, о которых говорится в статье. И я собирался рассказать ей обо всем, что я для нее сделал, как только она приедет.
— Приедет, — нетерпеливо подхватил Грейсон. — Софи уже здесь.
— Что? Она должна приехать только через неделю!
— Софи в Бостоне, в доме на Коммонуэлс-авеню, и она ждет вас. — Он стиснул зубы. — Черт побери, Конрад, вы даже не потрудились сообщить ей о своем переезде!
Конрад смутился.
— Я собирался объяснить ей и это тоже, когда встречу ее в гавани и привезу сюда. — Он улыбнулся. — Я собирался повозить ее по Общественному парку, возможно, мы бы вышли из экипажа и посмотрели, как катаются на коньках в лагуне. Я все хотел рассказать ей.
— И вы думали, что этого будет достаточно? Поспешного объяснения во время прогулки по парку? После того, как бумаги уже подписаны?
Улыбка исчезла с лица Конрада, он рассердился не меньше Грейсона.
— Ей двадцать три года, и ей пора понять, что жизнь состоит не только из музыки! Ей нужно руководство. И поскольку я ее отец, я обязан позаботиться о ее благополучии. Что я и делаю. Если мне пришлось ликвидировать этот траст, значит, так тому и быть. Она будет жить в моем доме, пока не выйдет замуж.
Грейсон провел рукой по волосам.
— Господи, зачем столько сложностей? — Он посмотрел на Конрада, едва сдерживая раздражение. — Вы ведь наверняка понимаете, что таким способом вы не заставите вашу дочь остепениться. Софи будет сопротивляться вам. — Его глаза сузились, превратившись в щелки. — А из этого следует, что она будет сопротивляться и мне.
— Пусть сопротивляется. Согласится она или нет, я буду делать то, что для нее лучше. — Резким жестом он затянул пояс на талии. — Я объясню дочери создавшуюся ситуацию. Утром я первым делом отправлюсь к ней.
— Расскажите ей о доме, — посоветовал Грейсон спокойно. — Но я не хочу, чтобы вы окончательно все испортили, рассказав о помолвке. — Его глаза сузились, в голосе послышались холодные, тяжелые нотки. — Я сам скажу ей о нашей свадьбе. Если Софи узнает, что в довершение ко всему вы еще решили выдать ее замуж без ее согласия, она закусит удила. Она откажется от помолвки, просто чтобы досадить вам.
— Я ее отец. Она не станет мне возражать.
— Значит, вы забыли, какова Софи.
— Я не забыл, — проворчал Конрад. — Она упряма до невозможности. И всегда была такой.
— Совершенно с вами согласен. А теперь мне придется распутывать эту путаницу.
— Я думал, что помолвка — дело решенное, — сердито проговорил Брэдфорд Хоторн, патриарх почтенного семейства Хоторн, сидя в мягком кресле в своем кабинете.
Грейсон стоял у высокого окна Хоторн-Хауса, он был напряжен и молчалив, и сердитый голос отца не задевал его чувств. Он думал о Софи.
Он проснулся в отеле «Вандом», подумал о Конраде Уэнтуорте, и настроение у него сразу испортилось. Потом перед его внутренним взором предстала дочь этого человека…
Софи. С детских лет присутствуя в его жизни, она повсюду следовала за ним, постоянно что-то щебеча и то и дело задавая вопросы. Они часто ссорились, но быстро мирились. И он даже себе не признавался в том, что ссоры с этой несносной девчонкой выбивали его из колеи.
А однажды она попыталась его спасти.
Вспомнив тот случай, он почувствовал, что на сердце у него полегчало. Так всегда бывало, когда он думал о Софи.
Три месяца назад союз этот не вызывал у него сомнений — соединение двух старинных бостонских семей и общее прошлое, что тоже немаловажно.
Но вчера вечером он не узнал ту Софи, которую помнил. Она изменилась. Или это ему показалось?
Год назад, на приеме в честь дня рождения Конрада, она держалась независимо и уверенно — качества, которыми обладают далеко не все женщины. Внешне она казалась воплощенной благопристойностью, на ней было потрясающее, хотя и строгое платье, скромная прическа и совсем мало драгоценностей. Но глаза ее сверкали как-то совсем неблагопристойно. Точно костер, старательно скрываемый от посторонних взоров.
Говоря по правде, Софи всегда отличалась дерзким нравом, и ее острый язычок приводил в смущение многих ее поклонников. А склонность к независимости с годами превратилась в главную черту ее характера, и подчинить себе эту своенравную женщину сумели бы не многие мужчины.
Он подумал, что именно эта черта его и заинтересовала в ней в первую очередь. Настолько заинтересовала, что, выйдя из особняка отца, он чуть было не отправился обратно в «Белый лебедь», чтобы, несмотря на все условности, провести ночь в своей постели — вместе с ней. При одной мысли об этом кровь быстрее побежала по его жилам. Ему хотелось прижать ее к себе, обхватить ее округлые ягодицы, крепко стиснуть и одновременно смотреть в ее карие глаза с зелеными крапинками, наблюдая, как они темнеют от нахлынувшего желания.
Молча выругавшись, он обуздал свои мысли.
Он так и не осмелился переступить порог ее дома. Он не хотел, чтобы Софи Уэнтуорт разослала сообщения во все городские газеты о том, что он силой захватил принадлежащий ей дом. А что, если она и ту статью написала сама — чтобы вызвать хоть на грамм больше интереса к себе, хотя и так о ней говорили во всех светских салонах после заметки в «Сенчури»?
Очевидно, эту особу не волновало общее мнение, что имя женщины должно появиться в печати только два раза в жизни: в первый раз, когда она выходит замуж, и второй — когда она умирает. А скандал ему совершенно не нужен.