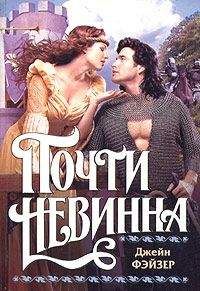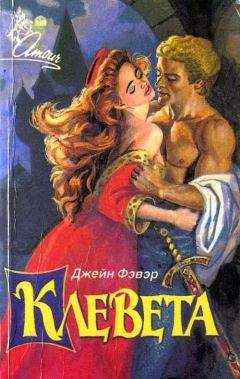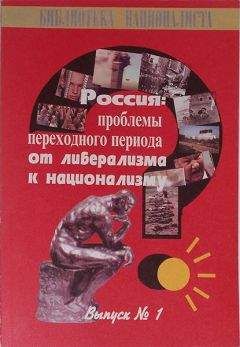— Вы храбро сражались, господа, — признала Магдалена, хотя в душе ненавидела бурные схватки, ужасающие зубодробительные выпады и удары, наносимые во имя дружеского соперничества и рыцарской забавы.
— Я тоже попрошу у вас залог, кузина, — объявил Шарль, поднимая забрало. Лицо его носило следы физического напряжения бурного финала. — Правда, это следовало сделать раньше, но ведь и сейчас не поздно. Я требую награду за то, что сражался во имя леди де Брессе!
Магдалена взяла цветок из вазы, стоявшей у ее локтя.
— Прошу вас, господин.
Она бросила ему цветок, хотя понимала, что куда вежливее было собственноручно вручить его Шарлю. Тот ловко поймал знак благоволения, но в глазах сверкнуло нечто такое, от чего Магдалена снова испытала смертельный страх.
Она так и не поняла, как вынесла вечерний пир, которым обычно завершались все турниры. Ей же казалось, что никогда уже она не будет счастлива. Она почти ничего не ела. Подцепила коркой хлеба кусочек рыбного заливного, повертела в руках пирожок с жаворонками и отказалась от лебедя и павлина.
— Почему ты не ешь? — прошептал Эдмунд ей на ухо. — Со стороны это кажется очень странным, словно тебе не нравится твоя же собственная кухня.
— У меня нет аппетита, — пробормотала она в ответ, но все же позволила пажу положить ей кусочек жареного фаршированного поросенка с грибами, а когда разносили десерт, откусила кусочек вафли с фруктами. Обычно она с удовольствием пила вино с пряностями, но сегодня оно казалось безвкусным, как вода.
Как она ни старалась, все усилия Эдмунда развеселить ее остались без ответа. Улыбка выходила деланной, глаза смотрели куда-то в сторону, и муж оставил ее в покое. Он постепенно привыкал к ее отчужденности и рассеянности, хотя это обескураживало и печалило его. Он не знал, что делать дальше, кроме как предоставить ее самой себе в надежде, что причины столь непонятного поведения когда-нибудь обнаружатся или просто все уладится и та Магдалена, которую он знал с детства, снова к нему вернется. Пусть она не любит его, но всегда была приветлива и дружелюбна.
В довершение ко всем развлечениям было объявлено, что на плацдарме собираются устроить грандиозный фейерверк. Жители города толпились на крышах домов и склонах холма, чтобы лучше увидеть редкое зрелище. Слуги замка разместились на высоких стенах. Гости расселись на трибунах, специально возведенных на плацдарме. В праздничном шуме можно было говорить, не опасаясь, что тебя подслушают.
Гай галантно улыбнулся, когда Магдалена села рядом, хотя глаза оставались настороженными.
— Вы любите фейерверки, госпожа?
— Я видела их всего однажды, — ответила Магдалена так же беспечно. — Но помню, что не верила своим глазам: в воздух взлетали замки, драконы… и все это в поразительных красках.
— Надеюсь, это зрелище вам тоже понравится.
По толпе пронесся возбужденный гул. Зрители громко ахали и радовались при виде сверкающего штандарта де Брессе, на котором расправил крылья огненный сокол. Не успел он погаснуть, как в небо взметнулись золотой дракон де Жерве, роза Ланкастеров и, наконец, французская лилия, дань почтения стране, в которой родился хозяин замка. Французские рыцари и их дамы бурно зааплодировали, и в поднявшемся шуме Магдалена тихо сказала:
— Я принесу твое дитя в церковь, после полуночной службы, если, конечно, хочешь с ним попрощаться.
Гай повернул к ней голову. Она так и не смогла ничего прочесть в его глазах, хотя темнота была прошита шипящей, взрывающейся оргией красок.
— После полуночи, — подтвердил он и вновь стал любоваться фейерверками.
Эдмунд так и не пришел спать, когда Магдалена прокралась в комнатку, где Эрин и Марджери похрапывали у колыбели Зои. Осторожно взяла малышку, надежно закутала в одеяло и вернулась в большую спальню, откуда выскользнула в потайной коридор и по винтовой лестнице спустилась во внутренний двор. Из зала доносились громкие голоса. Пьяные, но вполне дружелюбные. Эдмунд, должно быть, развлекает своих и приезжих рыцарей. Он не придет в спальню, пока не будет уверен, что жена спит.
Стараясь держаться в тени, она пересекла двор и вошла в церковь. После залитого светом факелов двора ее окутал полный мрак. Магдалена с заколотившимся сердцем прислонилась к тяжелой двери, подождала, пока глаза привыкнут к темноте, и наконец различила мерцающий за алтарем огонек свечи.
— Гай?
Шепот казался криком в этой мертвенной тишине. Магдалена шагнула вперед, почти бесшумно ступая по плитам.
— Это ты, Гай?
Пламя свечи вдруг взметнулось вверх, вспыхнуло почти неестественной желтизной, и она увидела темный силуэт у колонны.
— Я здесь, — негромко ответил он. Магдалена, прижимая к груди дочь, побежала к нему.
— Я не смогла не проститься, это невыносимая…
— Тише, — остановил он, обнимая ее и увлекая за алтарь. — Тише.
— Неужели так должно быть? — всхлипнула она, кладя голову ему на грудь.
— Так должно быть, — подтвердил он, приподняв ее подбородок. — Последний поцелуй, милая. Я буду помнить его до конца дней.
Последний горький, сладчайший поцелуй. Соль слез Магдалены смешивалась со знакомым вкусом их соединенных губ, а мокрые щеки прижимались к обветренному лицу с такой силой, словно она пыталась врасти в него.
Девочка захныкала, зашмыгала носом, и они медленно, каждым дыханием ощущая боль потери, отодвинулись друг от друга. Гай взял ребенка, поднял, наслаждаясь детским запахом, припав губами к шелковистому лобику. Крошечные ручки запутались в его волосах, губки зачмокали, будто Зои имела всего одну причину бодрствовать. Гай протянул палец, и она стиснула его в миниатюрном пухленьком кулачке.
Гай де Жерве не плакал с тех пор, как распростился с детством. Он терял друзей и товарищей в ужасающих обстоятельствах, и на поле битвы и вне его. Беспомощно смотрел, как неведомая болезнь пожирает его жену. Смирился с тем, что должен забыть свою вторую любовь. И не плакал. Но сейчас глаза подозрительно блестели: слишком велика была печаль. Слишком горьким оказалось сознание того, что дочь никогда не узнает своего истинного отца. Он не увидит ее первых шагов, не услышит первого слова. Не дождется, чтобы она назвала его отцом, и никогда не поможет взрослеть, окружив заботой и той родительской любовью, которая сейчас переполняла его. Но и это дитя, и эта женщина, без которой он не мыслил жизни, безжалостно у него отняты.
— Возьми ее и иди, — велел он, кладя ребенка на руки Магдалены и исчезая в тени.
Чуть поколебавшись, она повернулась и легким призраком метнулась к двери. Ее собственная скорбь была слишком глубока для слез. Так из ран, нанесенных тонким стилетом, почти не вытекает крови, хотя