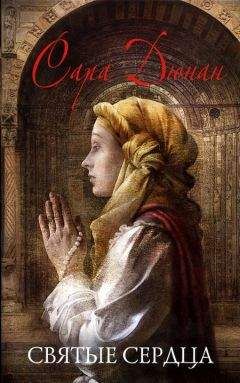В тот миг, когда он только появился, она приняла его за Джакопо, ведь и у того кудри так же падали на плечи, и он так же широко расставлял при ходьбе ноги. Теперь она знает, что то был Христос, пришедший к ней благодаря сестре Магдалене. Как и почему это произошло, ей не ведомо. Уж она этого точно не заслужила. И все же Он утешил ее тогда. И продолжает утешать теперь. Ибо Он тоже щедр, полон музыки и лишен злобы.
Что до будущего, всех этих завтра, завтра и завтра… Ну, о них она не думает. Да и как бы она могла?
— Серафина.
Серафина знает, кто в комнате. Слышала, как она входила, обратила внимание на звук, когда она что-то поставила на стол. Но если открыть глаза, то придется заговорить с ней, а из-за нее — именно из-за нее — все наверняка начнется снова. И все же…
— Серафина.
Она поворачивает голову и моргает.
Зуана сидит в маленьком кресле недалеко от кровати. Рядом с ней стоит деревянная тарелка с хлебом и сыром, миска горячего супа. Серафина уже забыла это знакомое лицо: широкий, открытый лоб, прорезанный морщинкой раздумий, и чистые, ясные глаза, улыбающиеся теперь вместе с губами. В них тоже нет ни капли злобы. Несмотря ни на что, она все же рада ее видеть.
— Слава Господу за то, что ты очнулась. Как живот, не болит?
— Нет.
— Тошнит? — спрашивает Зуана, наклоняясь вперед и щупая пульс девушки, ее испачканные чем-то красным пальцы сжимают худое, бледное запястье.
От запахов горячей пищи рот Серафины наполняется слюной, и она сглатывает. «Только когда думаю о еде», — мелькает у нее мысль.
— Нет.
— А какие у тебя сны? Кошмары снятся?
— Нет. — И она вспоминает мужчину, широкими шагами идущего к ней сквозь туман. — Нет, кошмаров больше нет.
— Вот и хорошо. Я принесла тебе немного сыра, свежего супа и хлеба.
— Я не голодна.
— Но поесть все же нужно.
— Не могу, — качает головой Серафина. — Я наказана.
— Наказана?
— Отец Ромеро. Он выслушал мою исповедь. Я наказана двухнедельным заточением в келье на хлебе и воде.
Тень пробегает по лицу Зуаны.
— Разве никто не сказал ему, что ты болела?
— Не знаю.
— Ты сесть можешь?
Она пытается подняться, но для этого требуется немало усилий.
Зуана приходит к ней на помощь, и, едва ощутив ее прикосновение, Серафина тут же снова попадает в водоворот той ночи: снова висит, беспомощная, в чьих-то сильных руках, ее кишки выворачиваются наружу, и желудок вопит от боли. Теперь такая интимность ее смущает, ей становится стыдно. Она отодвигается и заворачивается в одеяло.
— Прости меня… — произносит Серафина, не поднимая глаз. — Прости, если из-за того, что я сделала, у тебя были неприятности.
— Ты ни в чем не виновата, — качает головой Зуана. — Ты исповедалась. И получила прощение.
— Я все ему рассказала, — говорит девушка, глядя теперь прямо на нее и бросая слова, как вызов. — Все.
— Я рада, — мягко отвечает Зуана.
— Думаешь, это справедливое наказание?
— Не знаю. Хотя, по-моему, морить тебя голодом после такой яростной чистки нездорово.
— Не важно, я не голодна, — шепчет она и добавляет: — Сестра Магдалена ведь годами ничего не ест.
— Это не так. Она ест, но очень мало, так что с годами ее тело привыкло. Не думаю, что в этом отношении она хороший пример для подражания. Пока, по крайней мере.
— А сестра Юмилиана говорит иначе.
«Интересно, что еще говорит сестра Юмилиана?» — думает Зуана, хотя в глубине души, конечно, догадывается.
— Кто еще к тебе заходил?
— Сестра Федерика была. Принесла мне грушу — вот, гляди. — Серафина вытаскивает из-под подушки зеленый марципан весь в мелких частичках пыли. — Я не хочу ее. Возьми.
— Сохрани ее до конца наказания. Так тебе будет к чему стремиться.
Стремиться к чему-то. Какая простая мысль, как будто речь идет об ожидании солнца, которое непременно взойдет утром. Попытка убежать из монастыря — тяжкий грех для послушницы. И не менее тяжкий — помогать или подстрекать ее к этому. Девушка созналась в своей вине и получила прощение. Теперь Зуане пора подумать о своей душе. Больше она ничего не может для нее сделать. Разве…
— Серафина, слушай меня. Чемерица в сочетании с маком — ядовитое зелье, а доза, которую я тебе дала, была не маленькой. Некоторое время ты будешь чувствовать себя странно. Тобой будут владеть апатия и печаль; может быть, даже мысли будут путаться.
— Я ничего не чувствую, — вяло говорит та.
— В том числе и это. Но все пройдет, — замечает Зуана и умолкает, не зная, что еще сказать.
Девушка опирается головой о стену.
— Я видела кое-что, — говорит она тихо. — Кое-что страшное.
— Это все снадобье. Запомни: снадобье, и больше ничего.
— А ты такое когда-нибудь видела?
И она смотрит на Зуану глазами, кажущимися огромными на ее лице. И черными, точно куски угля.
— Да, видела.
— И чудесные видения тоже?
— Я… Да, в некотором роде.
— Но Его ты никогда не видела?
— Нет, — не задумываясь, отвечает Зуана.
— Почему? Ты ведь хорошая монахиня.
— Нет. Я… я…
— Да, ты хорошая, я знаю.
— Ну… Я… я думаю, что можно быть хорошей по-разному. И лишь немногим из немногих выпадает такая честь.
— Но ей она дана. Она видит Его.
Им нет нужды называть ее по имени. «Нам не позволяют говорить о ней», — думает Зуана. Это запретная территория. С другой стороны, столь многое изменилось за последние недели. Список тайн общины становится длиннее с каждым днем, и нет смысла отрицать существование одной из них, особенно потому, что она наблюдала ее куда ближе многих.
— Да. Видит.
— Она всегда Его видела, да?
— Похоже, что так.
— Почему она? Одна послушница рассказала мне, что она была простой крестьянкой из деревни, которую нашел где-то старый герцог. У нее нет ни семьи, ни образования. Ничего. Может, она родилась святой? Или так молилась, что стала ею? Или постилась? Как она это сделала?
— Не знаю.
— Мне кажется, я тоже Его видела, — качает головой Серафина. — Всего один миг.
Мак: от него еще не то увидишь.
— Возможно, что это тоже было действие наркотика, Серафина, — тихо говорит Зуана.
— Откуда ты знаешь? — спрашивает девушка, и ее голос дрожит. — Если бы мы все Его видели, то, может, стоило бы жить и умереть здесь.
«Да, что-то ее изменило», — думает Зуана. Да и как иначе? Если бы Господу было угодно послать ей смирение!
— Я думаю, что наш Господь всегда с нами, даже если мы не видим Его своими глазами.
Серафина молчит, как будто обдумывая эту мысль.