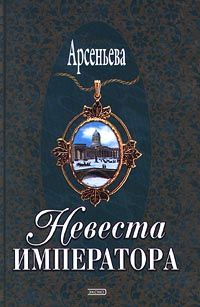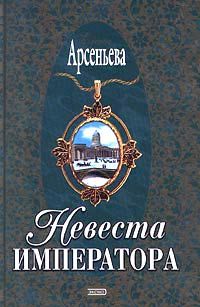Сиверга насупилась. Нет, она не хочет думать об этом! Она перестала встречаться с мужем-медведем, потому что ей стыдно снова просить его принять облик русского князя. А никакого другого мужчину она не хочет видеть в тисках своих колен. Если бы сейчас муж-орел взглянул в глаза Сиверги, он сразу увидел бы, что своих трех волшебных мужей и всех духов тудин, дающих колдовские силы, в придачу, Сиверга отдала бы за любовь русского. Бессмертие и мудрость – отдала бы за смерть в его объятиях!
Она могла выбирать среди богов – но выбрала человека, который отверг ее. До последнего мгновения Сиверга надеялась, что Око Земли – истинное, глубинное Око, а не мимолетный взгляд его, который она являла князю Федору, – подскажет ей, как завладеть русским, потому и пришла сегодня к старой лиственнице, поставила на камни изображения предков, зажгла чистый огонь и принесла жертвы.
Земля благосклонно раскрылась Сиверге, и Око показало ей Судьбу. Когда Сиверга нагляделась и поняла, что она – не простая, слабая женщина, утеха мужчины, а тудин, назначенная исполнять волю богов, она крикнула «Куу… куу!» в знак покорности и простерлась на камнях. Земля сомкнулась, лиственница, сочувственно скрипя, уронила на дрожащую от рыданий спину тудин… пока еще в образе женщины… зеленую благоуханную веточку. Лиственница знала, что недалеко время, когда тудин часто будет искать у нее приюта, и хотела дать ей знак своей благосклонности.
Долго лежала Сиверга у подножия лиственницы. Потом встала, поклонилась ей, собрала фигурки предков и отнесла их в священный амбарчик.
Теперь она была готова встретить судьбу. Потому что оставалась еще месть, и месть будет ей сладка и желанна.
Она пошла на поляну к своему убежищу и села там, перебирая гэйен на подоле и задумчиво слушая их мелодичный, призывный перезвон. Сиверга знала, что ждать ей недолго.
Она невольно усмехнулась, вспомнив, как черный человек несколько дней тому назад смог одолеть свою лютую, бешеную гордость и унизился до того, что пришел к старухе, жившей с пастухами при большом оленьем стаде, принадлежащем воеводе. То, что старухой была пугающая Сиверга, он, конечно, не знал.
Да кто бы она ни была! Коли просишь, так проси. А Бахтияр мало что пришел без дара – напротив, держался так, будто старуха ему должна услужить. И ружье так и плясало в его руках… Сиверге смерть как хотелось, чтобы он выпалил – выстрел тогда вернулся бы к нему! – но Бахтияр, к ее досаде, все же не стал стрелять. С презрением глядя в старушечьи глаза, утонувшие среди морщин, он не умолял о помощи, а требовал своего.
– Я не глухая, – ответила тудин. – Может быть, ты сам глухой, потому кричишь?
– Молчи, туземка! – рявкнул Бахтияр, но старуха за словом в карман не полезла:
– А ты кто же? Тоже небось не русский князь!
Тут у Бахтияра надолго занялся дух. А старуха – что ж старуха? Сидела да сидела, разглядывая далучин – обожженную оленью лопатку, трещины на которой умеют предсказывать судьбу.
Бахтияр с ненавистью швырнул серебряную монету, да так, что едва не вышиб старухе глаз. И опять – ни слова о прошении! Он не просил, а требовал, чтобы старуха указала ему самое лучшее и действенное приворотное зелье, а еще – средство навести несмываемую порчу на врага.
Из-под старческих век на Бахтияра глядели молодые, черные глаза Сиверги. Она ненавидела его! Она вспомнила про капкан под выворотнем, который чуть не изувечил мужа-медведя; она вспомнила, что этот черный никогда не задобрит чужих лесных духов, когда идет в тайгу: не то что куриного яйца не положит на тропе, а и даже куска хлеба, куска пирога не оставит, как делают все, даже самые бедные русские. И еще она вспомнила грустные серые глаза, которые, словно паутиной, оплели того единственного мужчину, бывшего ей желанным. О, с каким наслаждением она отдала бы сероглазую во власть этого исчадия, только бы освободить себе дорогу к любви… Но не было, не было к нему дороги!
Она помнила, какое лицо сделалось у Бахтияра, когда из-под морщинистых старушечьих век вдруг покатилась яркая алмазная слеза! Он решил, что старуха исполнена к нему жалости и сочувствия, а ведь тогда Сиверга жалела только себя. И она открыла Бахтияру тайну любовной чары и злой порчи.
Порча была самая простая, безотказная – но вовсе безвредная. Уже много лет в Березове жила старая русская повитуха-знахарка, колдовства которой боялись все. Сиверга знала, что Бахтияр и туда хаживал за приворотом, да что проку было в сросшихся корешках и сухой змеиной коже, которые он получал?! Старуха уже все свои колдовские умения изжила. Однажды Сиверга подглядела, как она наводила куриную слепоту на воеводу: она скоблила с ножа, которым зарезала старую, полуживую курицу, и пускала по ветру почти незримые кровяные крошки. Сиверга знала, что это полная чепуха: надо зарезать самое малое десять кур, чтобы наскрести слепоту, но где их было взять?! Тем более что воевода, пивший хвойный отвар, был надежно защищен от куриной слепоты и цинги. Поэтому она без опаски поведала Бахтияру сие средство, заведомо солгав, а вот про любовную чару сказала истинную правду.
Колдунам, шаманам и тудин известно, что в некоторых перьях птицы хунила-харакшин (оляпки, как ее называют русские) сокрыта столь чарующая сила, что никакая женщина не устоит перед обладателем этих перьев. Но, чтобы добыть чудотворное средство, надо убить оляпку и над ее теплым клювом дать клятву в том, что человек отрекается от своей жены и детей, от семейного счастья, от друзей и богатств и жертвует всем этим для приобретения любовной чары из перьев. Все перья с хунила-харакшин надо бросить в реку – которые поплывут против течения, те и чародейные. Достаточно таким пером раз коснуться женщины, чтобы завладеть ею!
Бахтияр, конечно, сразу ринулся в тайгу. Но если Сиверга-женщина открыла ему эту тайну, то Сиверга-тудин не могла позволить, чтобы этот безумный просто так убивал красивых птиц. А потому, куда бы ни шел Бахтияр, всюду над ним парила рыжая сова, и при виде ее неподвижно распростертых крыл все оляпки в страхе улетали на закраины тайги, так что черный снова и снова уходил домой ни с чем.
Поэтому Сиверга и сидела так терпеливо на поляне сейчас, что знала: он скоро придет! Он скоро придет…
* * *
Стоило Бахтияру вспомнить, какое лицо было у русского, когда он увидел, что соперник жив, как его начинало корчить от злости. Он охотнее простил бы удар кинжалом из-за угла, но не этот издевательский смех. Конечно, русский знал, знал, что никакого яду нет! О, будь он проклят, будь проклят!
Бахтияр даже зубами скрипел от ненависти. Кой шайтан помрачил его разум, почему помешал всадить кинжал под ребро этому злодею? Он едва не плакал; хлесткие удары ветвей по лицу – Бахтияр ломился напролом сквозь тайгу – чудились ему пощечинами, и с каждым новым шлепком все круче вскипала воспаленная кровь. И уже не в первый раз ударила в голову мысль: зачем он здесь? Что делает в этом северном, нечеловеческом, безмерном краю, где даже неба не видно, а кочка в два аршина вышиной уже зовется горой. И реки текут медленно, медленно… Он укусил себя за руку от тоски, вспомнив пенные струи и хрустально-чистую воду горных рек, и скалистые отроги, и орла, широко распростершего крылья над вершинами гор… горы до горизонта, справа, слева, вокруг – и вольные, вольные орлы…