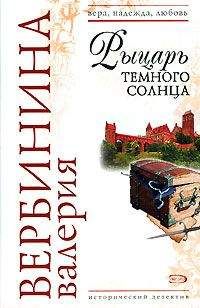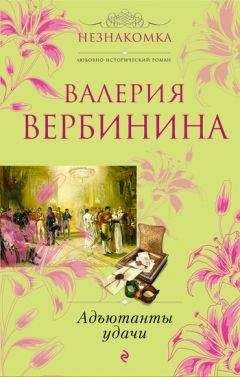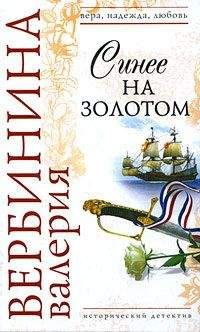– Значит, ты умрешь… – произнесла Мадленка безнадежно. – А я? Что же будет со мной?
Боэмунд улыбнулся:
– Ты будешь жить. Поверь мне, лучше жизни нет ничего на свете! И не думай ни о чем. Я все равно заслужил смерть. Не за одно, так за другое.
– Но смерть не заслужила тебя! – возразила Мадленка, в которой вновь взыграл дух противоречия.
Боэмунд пристально посмотрел на нее и ничего не ответил. Наступило долгое молчание.
– Наверное, мне не стоит благодарить тебя за то, что ты спас меня, – нарушила его Мадленка. – Тебе моя благодарность наверняка не нужна. И потом, ты же это сделал не ради меня.
– А ради кого?
Мадленка вздрогнула.
– Какая разница? Неужели есть на свете хоть один человек, которым ты дорожишь?
Боэмунд снова глядел на пламя лампады.
– Ты права, – сказал он спокойно, – такого человека нет. То, что я сделал, я сделал только ради себя.
Мадленка ждала совсем других слов, но то, что она услышала, могло значить только одно: синеглазый не любит ее. А раз так, все остальное уже не имело смысла.
– И тем не менее я благодарна тебе, – продолжала девушка спокойно. – Ты умрешь, а я буду жить. Разве это не прекрасно?
И прежде чем Боэмунд нашелся, что ответить, Мадленка приблизилась к двери и постучала, как было условлено. Стража выпустила ее.
Бой часов разнесся, когда Мадленка возвращалась к себе. На глаза ее навернулись слезы, и она, не сдержавшись, всхлипнула.
А в другом крыле замка Боэмунд вытянулся на кровати и закрыл глаза. Но до самого утра ему так и не удалось уснуть.
Глава 17,
в которой кое-кто едва не лишается головы
День, когда должна была решиться судьба крестоносца, выдался необыкновенно погожим. Ни облачка в небе, радующем своей первозданной синевой, ни дуновения ветерка. В такую пору хорошо лежать в траве, ни о чем не думая, где-нибудь в тени деревьев. Тишь, покой, умиротворение; в лугах бродят коровы; по дороге рысью промчался всадник и скрылся из виду… Или никакого всадника нет и в помине, есть только ты и божий свет, в котором тебе легко и привольно. Станет жарко, можно спуститься к реке, где ивы опускают в воду свои ветви, как волосы, а на берегу стрекочут кузнечики, где-то в листве звонко переговариваются птицы. Хорошо, ей-богу, хорошо!
Однако в то памятное утро в замке Диковских и в его окрестностях решительно никто не был настроен на идиллический лад, скорее напротив – всем не терпелось собственными глазами увидеть, как князь Август Яворский разделает ненавистного супостата-крестоносца. Разумеется, если бы того четвертовали или хотя бы посадили на кол, зрелище вышло бы куда более любопытное; но господа на то и господа, чтобы распоряжаться, и раз уж они решили, что юный Август заколет немца при всем честном народе, так, значит, тому и быть.
С самого рассвета на поле, где должен был произойти поединок, начали стекаться любопытные. Вскоре мест на всех уже не хватало; то и дело возникали стычки, в которые приходилось вмешиваться замковой страже, которой было поручено наблюдать за порядком. Пока не появились ни князь, ни его свита, толпа развлекала себя разговорами. Вспоминали Грюнвальдскую битву, в которой участвовали чуть ли не все присутствующие, если верить их словам; вспоминали Белый замок; ругали немцев, хвалили князя Доминика и обсуждали вчерашний поединок. Кое-кто держался того мнения, что рыцарь и сегодня окажется сильнее и что князю Августу определенно несдобровать, люди знающие уверяли, что наверняка все устроят иначе: князь Август, будь он даже одноногий, однорукий и кривой, все равно одержит верх и побьет крестоносца. После чего разгорелся жаркий спор: одни утверждали, что князь Август боец хоть куда и без всяких ухищрений, другие – что только дунь на него, и он улетит от страха. Когда истина не может лежать посередине, ее тут же начинают устанавливать кулаками, и спорящие едва не сцепились врукопашную.
Но тут протрубили трубачи, появились князь Доминик, епископ, холеный пан, прибывший из самого Кракова, красавица Анджелика в роскошном наряде, казавшаяся бледнее, чем обычно, и придворные из княжеской свиты. Мадленка пришла в числе последних, затерявшись между дамами литвинки. У девушки было достаточно причин желать, чтобы ее появление прошло незамеченным, однако не тут-то было: зоркая Анджелика, обернувшись в ее сторону, узнала ее и подозвала к себе. Та нехотя приблизилась. Невеста князя сидела под балдахином слева от Доминика.
– Я думала, ты уже покинула нас, – сказала Анджелика.
– И присоединилась к праотцам? – съязвила Мадленка. – Вы ошиблись, благородная панна.
Анджелика умела пропускать мимо ушей то, что не хотела слышать, и на лице ее совершенно ничего не отразилось.
– Может, ты правильно сделала, что осталась посмотреть, как твой защитник умрет, – продолжила она спокойно. – Отсюда тебе будет лучше видно. Подвинься, Мария…
Служанка с недовольной миной выполнила приказание, и Мадленка, поколебавшись, опустилась на освободившееся на скамье место. Отсюда все поле было видно как на ладони, и при мысли о том, что вот-вот произойдет на нем, у девушки невольно сжалось сердце. Помня, что вокруг нее враги, она заставила себя беспечно улыбнуться и подняла глаза на ненавистную литвинку.
– Где же ваш ручной зверь, госпожа? Я что-то не вижу его.
Облачко набежало на лицо Анджелики.
– Он умер, – коротко сообщила она. – Он прискучил мне и Доминику тоже.
Мадленка содрогнулась и отвернулась. Тут она обнаружила, что попала в поле зрения пана Кондрата, глядевшего на нее ласково, как скупец глядит на случайно найденный клад невероятной ценности. «А, чтоб тебе пропасть!» – подумала девушка, но мило ему улыбнулась. Пан Кондрат заиграл бровями и тоже заулыбался, за что Мадленка пожелала ему уже гореть в аду до скончания веков. До нее не сразу дошло, что епископ Флориан что-то говорит, обращаясь ко всем собравшимся. Мадленка напряженно прислушалась, но слабый голос епископа терялся в пространстве, заполненном праздной, скучающей, жаждущей крови толпой.
Речь его была бесцветна и пересыпана таким количеством латинских выражений, что понять ее определенно было нелегко. Красочно описав подвиги крестоносца, достойные, разумеется, всяческого порицания, епископ долго распространялся о праве князя Августа убить своей рукой человека, лишившего его матери и крестной. Но так как князь Август, говорилось далее, не хочет быть несправедливым, он предоставляет вышеозначенному крестоносцу возможность умереть с оружием в руках, защищаясь. Заканчивалась сия рацея похвалой князю Доминику и его милосердию, настолько витиеватой, что воспроизвести ее здесь нет никакой возможности, не уморив вас, мои благосклонные читатели, скукой. (Тех, однако, кто интересуется образчиками старинного красноречия, я отсылаю к изысканиям добрейшего барона Брамбеуса, в свое время основательно проштудировавшего летописи, где помещается рассказ о данном событии.)