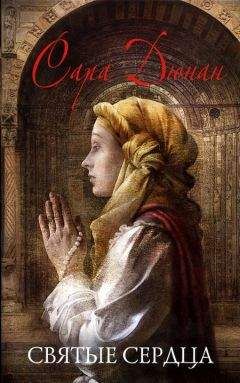— Я сама должна была догадаться. Ведь это было так очевидно.
— Нет. Это был искусный обман. Я бы и сама ничего не заподозрила, если бы не знала.
— Меня больше заботило, как бы не пропал маковый сироп из бутылки в аптеке, — качает головой Зуана.
— Ты, как всегда, слишком строга к себе, Зуана. Ты заболела, а остальной общине вскружил голову карнавал. У тебя нет причин винить себя.
— Единственное, чего я не понимаю, — это почему он, потратив столько сил на то, чтобы найти ее и установить с ней связь, вдруг без малейших колебаний взял и все бросил.
Аббатиса срывает лист с куста чемерицы и мнет его в руке.
— Я же говорила: молодые люди вроде него озабочены лишь одним — собственными удовольствиями. Если бы все вышло, как он хотел, то он взял бы ее, попользовался и бросил. Мы должны благодарить Господа за то, что Ему было угодно позволить тебе спасти ее от нее самой.
Зуана вспоминает ту ночь на причале, черную воду вокруг, Серафину, которая, сидя в лодке, возилась с веревками, и себя, неподвижно стоявшую рядом и не пытавшуюся ее удержать. Аббатиса-то знала, что на том берегу ее никто не встретит. Значит, именно Зуана должна была не дать ей убежать, удержать ее на краю, когда та поняла, что ее предали. «Спасибо». Голос девушки снова раздается у нее в ушах. Наверняка аббатиса тоже что-то слышала.
— Мадонна Чиара, я должна вам кое-что сказать.
— Нет, Зуана, я так не думаю, — говорит аббатиса и, бросив на землю лист, стирает его сок с ладони. — На мой взгляд, какой бы грех ты ни совершила, в ту ночь в ее келье ты расплатилась за него сполна. А если у тебя на душе есть еще какая-нибудь тяжесть, иди с ней к отцу Ромеро.
По ее тону понятно, что тема закрыта. И все же так много концов не сходятся.
— А что будет теперь? С девушкой?
— Она принесет обеты и со временем станет уважаемой и достойной монахиней.
— А если она по-прежнему не хочет?
— Не думаю, что она отважится на бунт. Не теперь.
И снова разговор подошел к концу, но Зуана опять мешкает.
— Меня беспокоит то, что она начала поститься сразу после болезни. Я…
— А меня беспокоит то, что она по-прежнему отнимает столько времени у тебя и у всей общины, — резким голосом замечает аббатиса. — Чтобы успокоиться, ей необходимо смириться с тем, что она обычная послушница, и вкусить немного горечи наряду с остальными. Учитывая то, как она согрешила, это не слишком тяжелое наказание, и большого вреда оно ей не принесет. А о «нуждах» ее пусть заботится пока сестра Юмилиана.
Очевидный гнев аббатисы, а также то, что Зуане отказано в доступе к девушке, подтверждают: аббатиса видела или, по крайней мере, заподозрила что-то в ту ночь, на пристани. В знак повиновения Зуана склоняет голову. Ей хочется намекнуть, как Юмилиана рада обращению послушницы, но она понимает, что сейчас не время. Любая монахиня должна уметь принимать критику с тем же смирением, что и похвалу. «Тебе следовало бы позаботиться о своей душе, сестра Зуана». Слова Юмилианы снова всплывают в памяти. Быть может, они обе правы: слишком большую часть своего пути она прошла бок о бок с этой ветреной молодой особой. А ведь есть другие, которые больше нуждаются в ней.
— К тому же ты все равно будешь занята в лазарете с сестрой Магдаленой, — говорит аббатиса спокойнее. — Я даже выразить не могу, как ей повезло оказаться на твоем попечении, как нам всем повезло. — Она умолкает, крепко потирая руки. — Ох, как здесь холодно. У тебя, должно быть, вторая кожа выросла с такой работой. Думаю, я еще успею повидать сестру Федерику, до того как колокол прозвонит шестой час. Может, мы дойдем до второй галереи вместе?
Зуана складывает грабли и лопатку в мешок, и они вместе идут вдоль стены огорода.
— Вчера на собрании я говорила серьезно, Зуана, — на ходу продолжает аббатиса. — Ты любимая сестра нашей общины. Твой труд делает жизнь каждой из нас богаче. Так же как твое послушание и верность. — Она умолкает, словно обдумывая, что сказать, и продолжает: — Вот почему мне захотелось поделиться с тобой новостью, которую я получила, — тревожной новостью. Похоже, что епископ Палеотти из Болоньи разослал всем монастырям города приказ о запрете театральных представлений, дабы духовная жизнь монахинь не осквернялась соприкосновением со светской. А в Милане кардинал Борромео запретил монахиням перенимать у светских музыкантов их искусство и грозится изгнать из церкви все музыкальные инструменты, кроме органа.
Новость и впрямь пугающая, и, хотя Зуане не очень понятно, зачем аббатиса сообщает ее именно сейчас, в том, что это правда, она не сомневается. Ей вспоминаются лица Бенедикты и Сколастики, сияющие от гордости за плоды своего труда. Не будет больше ни пьес, ни концертов… Нет, это невозможно… Разве только монастырем будет управлять Юмилиана.
— Вы думаете, что такое может случиться и у нас?
— Это уже происходит, исподволь. Начав работу над «подарком» — «Плачем Иеремии», — Бенедикта может обнаружить, что музыка, которой восхищаются сегодня в Риме, куда строже, чем те мелодии, которые льются из ее души. Однако в остальном для нас еще не все потеряно. Наш епископ хотя и склонен к реформам, но происходит из прекрасной семьи и не станет отказывать другим в их просьбах. И тем более важно, чтобы мы не давали ему никаких поводов для тревоги.
Некоторое время они продолжают идти молча. У входа в галерею аббатиса с улыбкой поворачивается к Зуане.
— При сложившихся обстоятельствах, уверена, ты поймешь, как важно для нас, чтобы сестра Магдалена оставалась в стенах лазарета до самой своей смерти…
…а не слонялась по коридорам, получая откровения на каждом шагу.
Это не говорится вслух, но подразумевается. Зуана представляет себе полубезумную Клеменцию, тянущую к ней руки с кровати, где ее удерживают ремни. Немощная старуха, в бреду, вся в пролежнях, привязанная к кровати, словно пленница. Этого, что ли, от нее хотят? Ради блага общины…
Зуана склоняет голову, но не может выдавить из себя ни слова. С Божьей помощью, до этого не дойдет.
Сестру Магдалену переносят в тот же вечер, перед последней службой. Зуана сооружает из садовых шестов и привязанного к ним матраса носилки, на которые она и три самые дюжие прислужницы монастыря аккуратно перекладывают старую женщину с тюфяка. Когда они поднимают носилки и идут, ее веки чуть трепещут от боли, причиняемой ей пролежнями, но она не протестует.
В лазарете бормочущая, как обычно, Клеменция странно затихает при их появлении. Магдалену опускают на заранее приготовленную кровать, и Зуана кладет на самые нехорошие пролежни припарки из календулы. В знак уважения приходит аббатиса, почти сразу за ней появляется сестра Юмилиана, которая опускается рядом с кроватью на колени и начинает молиться. С другого конца комнаты ее молитву подхватывает монотонный голос Клеменции.