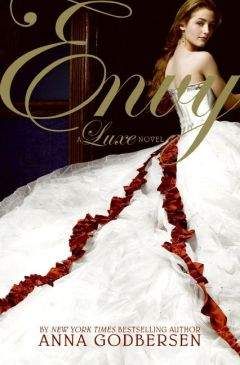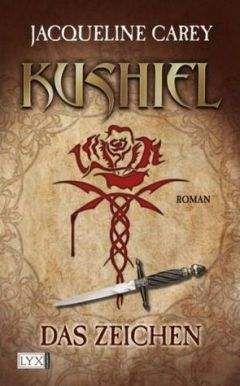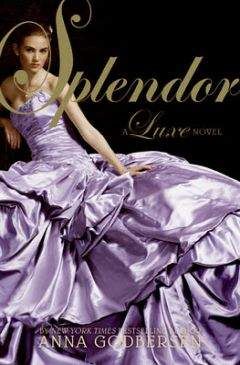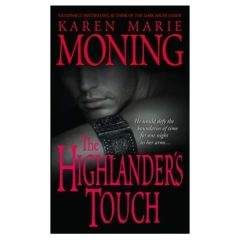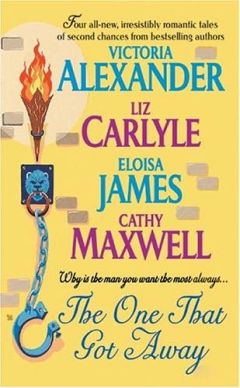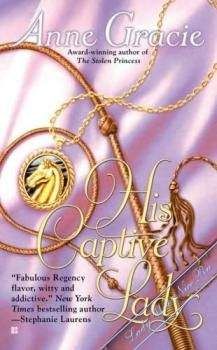Девушка, о которой шла речь, перевела взгляд с матери на Сноудена и увидела доброту на его лице. Зрачки его широко расставленных под густыми бровями глаз неопределенного каре-зеленого цвета расширились, когда он посмотрел в сторону Элизабет. На нём была рубашка из прочного белого полотна и жилет из потертой коричневой кожи. Для него это была своего рода униформа. Конечно, он был прав: Элизабет едва прикасалась к еде со дня смерти Уилла, а ту еду, что получалось проглотить, с большим трудом могла удержать в себе. Она сильно похудела и не ухаживала за волосами, которые теперь висели паклей.
– К тому же, – продолжил Сноуден, – семье не принесет никакой пользы, если в обществе будут обсуждать её состояние. Хрупкость Элизабет только подтвердит догадки людей, которые будут говорить о том, что с октября по декабрь с нашей девочкой произошло что-то плохое.
Элизабет уже не сияла лучащейся искренней улыбкой, которой встречала друзей и знакомых, в те дни, когда была пользующейся популярностью дебютанткой. Теперь об этом довольном выражении лица она могла только мечтать. Но все равно сейчас она попыталась улыбнуться.
Сноуден приводил доводы, которые бы могла высказать и она сама, если бы пожелала. Элизабет позволила тонким векам на секунду закрыться, мысленно вернувшись в Калифорнию. Её тело было согрето солнцем и теплом тела Уилла, её почти ослеплял чистый и яркий свет. Такого никогда не увидишь в Нью-Йорке, где зимой солнце садится в пять вечера, а все стены закопчены чадом масляных ламп. Когда Элизабет открыла глаза, она опять оказалась в захламленной старинными предметами темной комнате с панельной обшивкой из тисненой кожи оливкового цвета и резным деревянным потолком, испещренным пятнами. Маленький, четко очерченный подбородок миссис Холланд дернулся в направлении Элизабет. Она провела длинными пальцами по лбу, а затем прижала кончики пальцев к вискам. Минуту она подумала, после чего спросила:
– И что вы в таком случае предлагаете? Навсегда запереть её в доме словно узницу, как будто она глухонемая, неспособная понять устройство мира? И что прикажете говорить моим друзьям, которые сначала искренне радовались тому, что она жива, а теперь теряются в догадках, почему мы ограждаем её от общества? – Она сделала паузу и опустила ладонь на колено. – Тем друзьям, что у меня ещё остались, – мрачно добавила она.
Сноуден встал и ответил совершенно другим тоном:
– Думаю, я знаю, что делать. – Он подошел к камину. Свет от пламени озарил его необычайно светлые волосы, когда он принялся отчаянно жестикулировать. – Мы устроим прием здесь, дома, где Элизабет чувствует себя уютно. – Он замолчал, раздумывая. – Не бал. Скорее, ланч. Спокойный, милый, при свете дня. Мы сможем пригласить всех, с кем раньше общалась Элизабет. Юных леди, с которыми она дружила. Несколько человек, не слишком много, но достаточно, чтобы пустить молву, что с ней все хорошо и она вернется в свет, когда кончится зима и Элизабет снова будет в порядке – Он повернулся к девушке: – Ведь к тому времени она уже оправится?
Тень улыбки, только что витавшая на губах Элизабет, исчезла. Она перевела взгляд от Сноудена к матери и увидела, что пожилая леди уже обдумывает предложенный им план. Не стоит говорить, что Агнес Джонс, обе мисс Уитмор и кузины Холланд, и Гансвоорт, можно считать, приглашены. Они прибудут в последних творениях своих портных, и буду искоса поглядывать на Элизабет, сравнивая её туалет со своими. Девушку немного мутило от самой мысли о притворстве – всех этих любезностях и натянутых разговорах, в которых ей придется участвовать. Ей придется надеть платье и затянуться в корсет, словно это имело для неё значение.
Полено в камине прогорело посередине и распалось пополам, рассыпав тлеющие угольки по каменной плите, и Сноуден тронулся с места, чтобы затоптать их. Элизабет спрятала лицо в ладони, зная, что ей потребуется намного больше, чем несколько холодных месяцев, чтобы снова стать прежней.
Я слышала, что пары помоложе порой обустраивают одну спальню для мужа и жены. Предполагаю, что это признак разумного использования места, и, в конце концов, необходимости продолжать род. Но все же мне милее образ жизни старшего поколения: две хорошо обустроенные спальни, по одной для мужа и жены – вот устройство дома, предотвращающее раскрытие множества досаждающих личных секретов…
Ван Камп «Руководство по домоводству для леди из высшего общества», издание 1899 года
Холмы были такого насыщенного зеленого цвета, какой бывает лишь сразу после проливного дождя, и лошадь, на которой ехал Генри Шунмейкер, неслась галопом сквозь влажный воздух так быстро, что всадника немного подташнивало от скорости. Впереди него неслась Диана Холланд с наполовину распущенными блестящими красновато-коричневыми кудрями, взлетающими и опускающимися на плечи. Девушка оглянулась через плечо, чтобы удостовериться, что Генри не отстает. На ней было белое платье, напоминающее ему о греческих статуях в музее Метрополитен, и хрупкая фигурка двигалась в такт галопу огромного лощеного коня. Он опустил глаза, подстегивая свою лошадь, уже вспотевшую от натуги, а затем, когда снова поднял голову, чтобы взглянуть на Диану, ощутил прикосновение грубой ткани килима [2] к щеке и вспомнил подушки дивана, на котором спал с первого дня семейной жизни, привезенного законодателем мод Исааком Филлипсом Баком из какого-то круиза по Дарданеллам.
– Генри!
Секунду одурманенный разум Генри не мог различить, где сон, а где явь, хотя хранил трогательную надежду, что именно сцена с зелеными холмами, скачущими лошадьми и младшей мисс Холланд сейчас станет четче. Он опустил лицо, пытаясь уклониться от резкого голоса отца, и снова почувствовал прикосновение шершавой подушки к своей гладкой золотистой коже. Безусловно, импортная турецкая ткань была более осязаема, нежели влажный деревенский воздух, ощущение которого в любом случае быстро улетучивалось, и Генри ничего не мог с этим поделать.
– Генри.
Теперь Генри зашевелился всем телом, сел, и тут же совершил первую за это утро ошибку: открыл глаза. Это простое действие причинило ему острую боль, когда яркий утренний свет встретился с изнуренной роговицей.
– О, – слабо произнес он.
– Да, я знаю, что это больно, – отозвался отец, присаживаясь на диван. Уильям Сакхауз-Шунмейкер был крупным широкоплечим мужчиной, но было сложно однозначно сказать, придавил ли он мягкое ложе, обтянутое черной кожей, весом своего тела или сарказма, прозвучавшего в голосе. Его темно-коричневый костюм в лучах света казался почти пурпурным, а волосы были неестественно глубокого черного цвета. Лицо состояло из резких черт и лопнувших кровеносных сосудов, но было видно, что структура костей передалась сыну именно от него. Он, как всегда, выглядел очень богатым человеком. – Но что ты здесь делаешь?