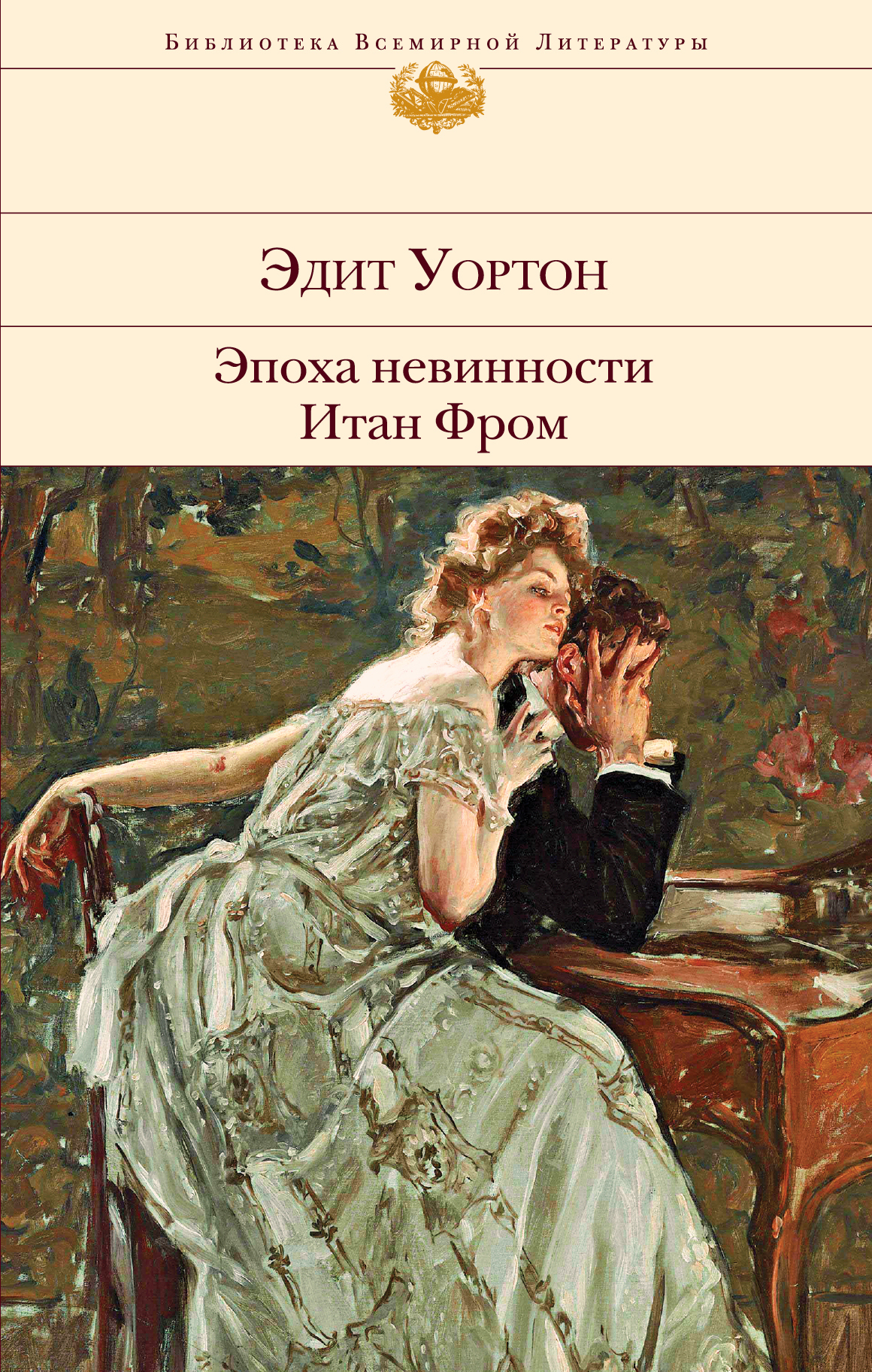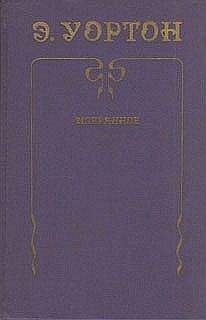плелись за Далласом, увлеченно носившимся по английским соборам, и Мэй, всегда ставившая во главу угла равноправие детей, настояла на соблюдении баланса между спортивными и художественными интересами. Она даже предложила, чтобы муж провел две недели в Париже и встретился с ними на итальянских озерах после того, как они «разделаются со Швейцарией», но Арчер предложение отклонил. «Будем держаться вместе» – и Мэй просияла, услышав его ответ, который мог стать замечательным примером для Далласа.
С ее смертью, случившейся двумя годами ранее, причины продолжать жить по заведенному порядку у него не было. Его дети всячески подталкивали его к путешествиям. Мэри Чиверс уверенно заявляла, что ему будет полезно побыть за границей и «посмотреть галереи». Казавшаяся ей непостижимой природа этого лечения еще больше убеждала ее в его эффективности. Но Арчера удерживала привычка, удерживали воспоминания и внезапные приступы страха перед всем новым.
Теперь, обозревая свое прошлое, он видел всю глубину колеи, по которой катилась его жизнь. Самое неприятное в исполнении долга – это то, что это отнимает у человека способность делать что-либо иное. По крайней мере, так считали мужчины его поколения. Четкие разграничения правильного и неправильного, честного и бесчестного, достойного уважения и его недостойного не оставляли места непредвиденному. Но бывают моменты, когда воображение, так легко подчиняющееся повседневной рутине, внезапно оживает, и человек, воспарив над обыденностью, оглядывает повороты, извивы и сложные петли на пути своей судьбы. Арчер думал, думал и только удивлялся. Куда делся маленький тесный мирок, в котором он вырос, чьи правила и установления так теснили его и сковывали? Он помнил язвительное пророчество, высказанное много лет назад бедным Лоренсом Лефертсом как раз в этой комнате: «Если так пойдет… то наши дети еще будут… жениться на бофортовских выродках!»
Именно это и готовится сделать старший сын Арчера, его гордость и сокровище, и никто не удивляется, не осуждает. Даже Джейни, тетка мальчика, все еще выглядящая точь-в-точь как в дни своей стародевичьей юности, достав материнские изумруды и мелкие жемчужины из их ватного гнезда, привезла их самолично и отдала трясущимися руками в подарок будущей невесте, и Фанни Бофорт вместо того, чтоб гримаской выразить разочарование тем, что это не «комплект» от парижского ювелира, радостно ахнула, восхитившись старомодной красотой украшений, и возгласила: «В них я буду чувствовать себя настоящей миниатюрой Изабей!» [56]
Фанни Бофорт, появившаяся в Нью-Йорке восемнадцатилетней после смерти обоих родителей, покорила этот город почти так же, как тридцатью годами ранее это сделала мадам Оленска, с той только разницей, что тут не было ни настороженности, ни опаски, а только радость и безоговорочное приятие. Хорошенькая, забавная в общении, искушенная во всех дамских искусствах – чего ж еще вам надо? Никто вокруг не был ограничен и узколоб настолько, чтобы копаться в прошлом ее отца или в истории собственного ее появления на свет и, выгребая какие-то полузабытые факты, ставить их потом ей в вину. Лишь те, кто постарше, помнили такой темный малоприятный эпизод в деловой жизни Нью-Йорка, как разорение Бофорта, или то, что после смерти жены он тихо и мирно сочетался браком с пресловутой Фанни Ринг, а затем покинул страну вместе с новой женой и унаследовавшей красоту матери маленькой дочкой. Ходили слухи, что он в Константинополе, потом якобы он перебрался в Россию, а лет через десять, как говорили, самым роскошным образом принимал каких-то заезжих американцев у себя в Буэнос-Айресе, где представлял крупное страховое агентство. Там же на пике процветания он и жена его скончались, а их осиротевшая дочь очутилась в Нью-Йорке под присмотром свойственницы Мэй Арчер миссис Джек Уэлланд, чей муж был назначен девушке в опекуны. Назначение это связало девушку и детей Ньюленда Арчера узами почти родственными, и объявление о помолвке Далласа никого не удивило.
Ничто иное не могло бы с такой ясностью и так мило показать длину пути, который к тому времени успел проделать меняющийся мир. Люди теперь слишком заняты – реформами, преобразованиями, «движениями», поклонением кумирам, своими прихотями и легкомысленными пустяками, чтобы проявлять сколько-нибудь заметный интерес к тем, кто рядом. Да и что может значить чье-то прошлое в гигантском калейдоскопе крохотных социальных частиц, кружащихся на одной плоскости?
Обозревая из окна отеля впечатляющую панораму веселых парижских улиц, Ньюленд Арчер чувствовал, как смятенно и по-юношески бурно бьется его сердце.
Давно уже сердце не билось так – оно то падало вниз, то подпрыгивало, подступая к самому горлу, распирая жилет, чтобы через секунду вновь замереть, оставив его с ощущением пустоты в груди и горячей испариной на висках. Он думал, испытывает ли нечто подобное его сын в присутствии мисс Фанни Бофорт, и решил, что нет, не испытывает. «Сердце его, конечно, бьется исправно, но в другом ритме», – размышлял он, вспоминая, как невозмутимо, с какой-то даже холодноватой сдержанностью объявил сын о своей помолвке, считая само собой разумеющимся ее полное одобрение семьей.
«Разница в том и состоит, что современные молодые люди считают само собой разумеющимся, что все их желания непременно подлежат исполнению, мы же, за крайне редким исключением, считали само собой разумеющимся, что это вовсе не так. Интересно только одно: если ты так уверен, что желание твое исполнится, будет ли сердце так же бешено колотиться от одного только предчувствия этого долгожданного момента?»
В Париж они приехали накануне, и теперь, сидя у открытого окна, Арчер не мог оторвать глаз от вида Вандомской площади, раскинувшейся во всю ширь в серебристом сиянии под лучами весеннего солнца. Одним из условий – а точнее, почти единственным условием, которое он оговорил себе, согласившись на заграничный вояж с Далласом, – было требование не заставлять его по приезде в Париж жить там в каком-нибудь из новомодных «дворцов».
«О, ладно! Разумеется, – великодушно согласился Даллас. – Пусть это будет забавная старозаветная развалюха – скажем, к примеру, «Бристоль».
Услышав такое, отец опешил: как? Место, издавна облюбованное королями и императорами, стало теперь синонимом убожества, гостиницей, где останавливаются лишь чудаки, жаждущие неудобств в сочетании с остатками местного колорита?!
В первые годы, когда он, еще полный смятения, нетерпеливо рвался куда-то, он рисовал себе сцену своего возвращения в Париж, но потом себя на фоне Парижа он стал видеть не столь четко, и город этот постепенно начал представляться ему лишь антуражем, в котором протекает жизнь мадам Оленска. Вечерами, в библиотеке, когда домашние уже легли, он вызывал в воображении сияющую картину весеннего Парижа: цветенье каштанов на бульварах, цветы и статуи в городских парках, на тележках благоухает сирень цветочниц, река катит свои воды под знаменитыми мостами – жизнь, насыщенная искусством, научными занятиями, полная радостью так,