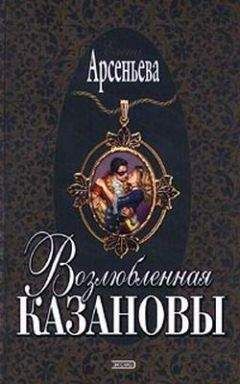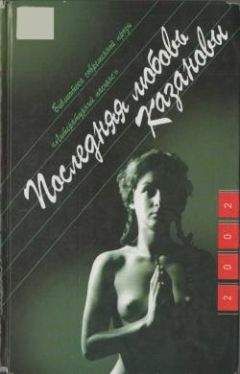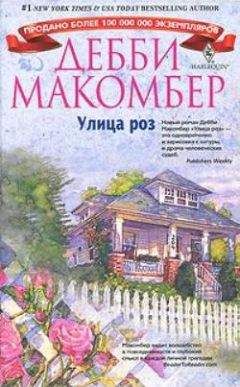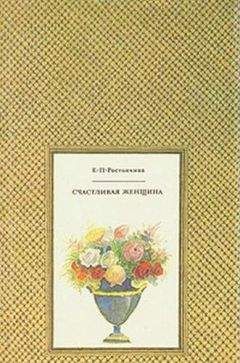Ознакомительная версия.
– Закрой кадушку-то, чтоб нечистый не нырнул. И гляди мне: сболтнешь кому лишку, я на тебя такую притку[24] напущу, что…
Ей даже не пришлось договаривать. Словно ветер прошумел по комнате, Агафьи и след простыл, только донеслись эхом ее обморочные причитания да всхлипывания. Право же, для одного дня, вдобавок начавшегося с ночных похождений лысой Анны Яковлевны, это было слишком!..
* * *
Легко сказать: доживем до октября. Надо ведь было и впрямь дожить!
Теперь, конечно, стало не в пример легче прежнего. Всякий день непременно приезжал верховой из Шумилова с гостинцем для графини, будь это даже всего лишь букет иван-да-марьи, сорванный при дороге: таков был наказ Потапа Спиридоныча. И Елизавета понимала, что недооценивала хитромудрости сего добродушного увальня. Понимая, что муж всяко жену свою застращать может или принудить ее говорить в его защиту, Шумилов велел своим посыльным не только графиню расспрашивать, но и слуг, самых надежных, вдобавок тайно, чтоб не озлобить против них графа. Но гонцы шумиловские шли прежде всего к Татьяне, которая так и осталась при Елизавете.
Почетное звание бывшей барыниной нянюшки было, конечно, весомым доводом в ее пользу, только вовсе не это побуждало дворню относиться к ней с особым почтением и даже с суеверным трепетом… Разумеется, все недоумевали, откуда она вдруг взялась, не с неба же свалилась? Вот именно, с неба, уверяла старая Агафья: Татьяна ведь не простая баба, а вещейка[25], из тех, которые обращаются ночью в сорок и залетают в печную трубу. Потому трубы надобно на ночь закрывать; тут, вишь, позабыли, и вот вам, нате-ка!..
Но и не в сем только было дело. Лицо Татьяны, одновременно отталкивающее и прекрасное, производило ошеломляющее впечатление не только на дворню. Сама Анна Яковлевна при встречах с Татьяною словно бы язык проглатывала и норовила поскорее проскользнуть мимо. Прямо скажем: спеси в Аннете здорово поубавилось, когда, воротясь домой (в роскошных темно-каштановых кудрях, в которых только слепец не признал бы Стешкиной бывшей косы), она обнаружила разительные перемены: покрытый синяками, еле живой от бессильной злобы Валерьян; быстро выздоравливающий Гребешков; ежедневное появление гонцов из Шумилова; спокойная, уверенная в себе, словно истинная хозяйка, Елизавета с прежней своей роскошною прическою, от вида которой у Анны Яковлевны оскомина челюсти сводила; а рядом с нею эта темная, неотступная тень, эта цыганка с очами то как лед, то как огонь, то как удар по лицу, то как незримые оковы, кои невозможно скинуть по своей воле… То есть светская дама Анна Яковлевна боялась Черной Татьяны не меньше, чем дворня, и с таким же доверием слушала россказни Агафьи, которая «сама видела», как цыганка лазила на чердак, чтобы закопать под матрицу комок коровьей шерсти, да конской, да хрюшачьей щетины, да кричье[26] перо, чтобы посеять в сем доме раздор… Но поскольку раздору здесь и прежде было что невыметенного сору, едва ли Татьяна могла особенно преуспеть. Тем более что такая чепуха ей и в голову прийти не могла; не до того было. Ведь ей на руки разом свалились двое тяжелобольных: один – телом, другая – духом; и врачевание их поглощало все ее время.
* * *
Елизар Ильич поправлялся быстро. Казалось, он настолько смущен обрушившимся на него вниманием и заботою, что от неловкости торопился выздороветь, дабы избавить других от хлопот.
В том, что Гребешков рано или поздно выправится, у Татьяны уже не было сомнений. Состояние Елизаветы беспокоило ее куда больше! Сама привыкнув (опять же от затянувшегося одиночества) со всех сторон разглядывать любое житейское событие, как бы поворачивая его на ладони, она в то же время ничего хорошего в этом не находила, потому что иной раз вот так начнешь судить да рядить и до того додумаешься, что сочтешь себя несчастнейшим и никудышнейшим из смертных, а рядом нету никого, кто бы тебя разубедил. И ее премного озадачивала прилипшая к Елизавете привычка выворачивать наизнанку все происходящее, взваливая при этом на себя основную тяжесть вины за свершившиеся беды как с ней самой, так и с другими. Поведав за несколько вечеров Татьяне историю своих приключений со времени их расставания, вновь окунувшись в темный омут былого, Елизавета словно бы захлебнулась воспоминаниями, отравилась их горечью да еще добавила к ним горечи новой. Ее ненависть к Валерьяну, перекалившись в купели страдания, постепенно начала выковываться в свою противоположность.
Буйствуй он в доме по-прежнему, злодействуй, рассыпай тумаки и плети налево и направо, и ее отношение к нему осталось бы прежним. Но ведь Елизавету так и не осилили его козни, сам Валерьян лежал хворый… Вот и обратилось естественное человеческое сочувствие чуть ли не в раскаяние. Елизавета вдруг уверилась, что, ни в чем не сходствуя с мужем, она отравила дни его и помогла ростку злобы проклюнуться и расцвесть в его душе. Вероятно, они оба равномерно разрушали семейный очаг еще прежде, чем создали его. Для Татьяны и сия вина казалась смехотворной. Любя всей душой Елизавету, она не желала выискивать никаких оправданий для Валерьяна; все силы положила на то, чтобы искоренить эти ненужные пагубные раздумья и направить все ее душевные и телесные силы на заботу о будущем дитяти. Но и тут образовалась закавыка: ребенок-то был Валерьяна!
Право же, при всем своем расположении к Потапу Спиридонычу Татьяна порою кляла его кулаки, стараниями коих Валерьян был возведен в ранг страдальца, и, как ни было ей тошно, передавала Агафье и Северьяну, ходившим за графом, самые действенные средства для его поправления. Теперь во что бы то ни стало нужно было поставить его на ноги. Татьяна ничуть не сомневалась, что, едва выздоровев, Валерьян вновь покажет себя во всей красе и раскаяние Елизаветы растает, как снег под солнцем.
Так оно и произошло.
* * *
На имении числилась рекрутская недоимка, и в последних числах мая, как раз когда граф начал выходить, в Любавине появилась воинская команда – пусть с некоторым опозданием, но все же пополнить недобор. И тут вышло наружу, что сельский староста в прошлом и позапрошлом году, дабы избавить мир от недоимки по налогам (или два рубля с тягла, или рекрут), украдкою сдавал людей в рекруты, убежденный, что лучше для общей пользы лишиться деревне человека, нежели вдруг отяготить крестьян великою для них суммою. Причем хитрец действовал так ловко, что даже вел две отчетные записи: одну, истинную, для себя, а другую, подложную, для показа управляющему и барину. Выходило, что по рекрутам в строиловской вотчине – перебор, а не недоимка! Казалось бы, все должны остаться довольны, да вот что еще обнаружилось: когда Валерьян по записным листам рассчитал, кому по весне свадьбы играть, чтобы увеличилось количество тягловых, он по неведению наметил в женихи и тех ребят, которые теперь оказались в нетях – были забриты год, а то и два назад. Мало того, что уменьшилось число тягловых! Невесты остались без женихов, а стало быть, граф остался без вожделенного права первой ночи.
Ознакомительная версия.