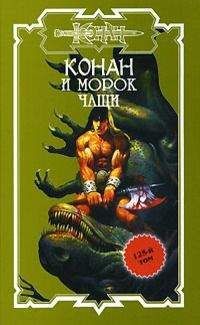Солнце пригревало, и по поляне стал расползаться тошнотворный запах крови.
Варю он отнес на руках к озеру. Одежда на ней была изорвана или порезана в клочки.
Он сначала зашел с ней в воду, потом уже на берегу, сорвал остатки платья, укутал любимую в плед.
— Володя, он, он..
— Все забудь, ничего не было. Это просто страшный сон. Это от тумана. Какой-то он ядовитый.
— Володя, он меня душил.
— Варя, это сон, мы спали, ты закричала и упала за борт, чуть не утонула. И все.
— Правда? А в этом сне, ты не мог бы прийти пораньше?
— Прости, любимая моя, но я пришел, теперь уже навсегда. До конца.
Он посадил ее в вертолет, задраил дверь и пошел в лес. На опушке ему навстречу ребята несли двух погибших. Владимир остановил этот траурный караван, наклонился и поцеловал погибших по очереди в лоб, по — русскому обычаю.
И пошел на поляну к чудотворцу.
Присел на корточки и пытался поймать взгляд убийцы.
Взгляд, как ни странно был осмыслен, и даже насмешлив. Из разбитого в драке рта, сочилась бурая пена.
— Что смотришь? Будущее хочешь узнать? Ты поднимешься только со мной, без меня тебе конец. Ты мне верь, я через такое прошел, сам себя скопцом сделал, и «царскую печать» положил. Сам, все сам, кровью мог изойти, но нет, выжил. Только чресел усечение жажду плоти не усмирило, вот и удумал я их через орудие извести, род этот бабий. Выстругал себе насадку, да и давал им вкусить неземного наслаждения. Баб заезжих ко мне инок Евлампий приводил. Все по дороге до норы выспрашивал, и ежели одинокая, то и участь ее решена была. Не мной, не мной, свыше. И про твою красу ненаглядную, он рассказал. Да не кривись, не кривись, нет ее любви, жажда плоти и томление духа. Твоя-то чиста, эх, не привел господь голубицу вкусить.
Коридоры власти вижу, ты и я, на вершине. Бабы зло, у нас их будет тьмы и тьмы. Забери меня, я умею открывать сердца и управлять душами.
Владимир Иванович нашел в траве ту саму насадку из березы, небольшое, но страшное орудие, с острыми деревянными шипами. Евнух все верещал, бабским голосом, что-то о власти и золоте. О властителе сошедшем вершить суд.
Владимир Иванович обхватил широкой ладонью орудие казни, и вонзил со всей силы в горло урода.
Он хотел вытащить кол из врага, но шипы не давали этого сделать. Голова закружилась от запаха крови. Пошатываясь и ненавидя себя за слабость, он покинул поляну.
Навстречу ему шел, начальник охраны, он махнул ему рукой: «Не надо, скопец, сам себя жизни лишил».
Быстрее к той, единственной женщине в своей жизни. Но шаги давались ему с трудом, в ушах шумело, тело покрылось холодным потом. Последнее, что он увидел — была трава, удивительно прохладная в этот жаркий день. Она приняла его беспомощное тело в свое малахитовое лоно, и словно баюкая его последний сон, над поляной пронесся ветер.
Очнулся он уже в реанимации, главврач объяснил ему, что было проведено шунтирование сердца, что жить он может, и работать тоже.
В следующий раз он пришел в себя в вечерних сумерках, у постели сидела Варя, и не мигая вглядывалась в его осунувшиеся лицо.
— Володя, любимый, как ты всех напугал!
— А тебя?
— Я без твоей любви никто, как раньше говорили — пустоцвет.
Он попытался встать, стыдно было при ней звать медсестру с уткой, да она сама все поняла, вышла, позвала медсестру и поцеловав его на прощание, отчего-то ушла.
Потом он спросил, сколько время, оказалось час ночи. Теперь он не мог уснуть, Варя на звонки не отвечала, но позвонила сама, часа через два, оказалось, просто разрядился телефон.
Теперь его жизнь на какоето время словно остановилась, хотя и раньше жил от встречи до встречи. Но раньше за суетой дел, все это было легче, а теперь хотелось выть, словно волку-одиночке.
На третий день его посетил отец настоятель.
Степенно прочитал над ним молитву о здравии, подарил иконку, великомученика Владимира, и завел неспешный разговор — о сборе урожая, о картошке, что нынче уродилась на славу, надо успеть убрать, а то обещали раннюю и дождливую осень, а крыша на элеваторе монастырском не крытая, все деньги ушли на восстановление гостеприимного дома.
— А что, про провидца слышно? — спросил Владимир Иванович, как можно равнодушнее.
— Загубил душу свою самоубийством. Так в его норе и похоронили.
— А женщину?
— Какую женщину? Не было никакой женщины, — твердо произнес архимандрит, и из под густых бровей сверкнул на собеседника, острым взглядом.
Владимир Иванович позвонил заму по строительству и отдал распоряжение о выдаче шифера.
— Бумагу пришлешь, подпишу. А я говорю, выдашь, — сразу преобразился, из пожилого дядечки в пижаме, в уверенного в своей власти мужчину.
Настоятель благословив его, удалился, а Варя все не шла. Вырвалась из редакции только в обед.
Он держал ее теплую руку и не хотел отпускать.
— Варя, я нанял адвоката, для развода. Я теперь, как новенький рубль. Выходи за меня, прости, что так без кольца предлагаю. Все будет, поверь, все у нас будет.
— Володя, давай уедем туда, где никогда не бывает тумана.
— Непременно. А пока ко мне переезжай, я уже шофера вызвал, и прислуге распоряжение дал.
Она поцеловала его в сухие, потрескавшиеся губы.
Мужчина потянулся обнять, и продлить блаженство, но девушка отстранилась.
— Володя, врачи запрещают, пока, — уточнила, увидев, как он побледнел.
— Зажги свечу, — прошептал он вслед.
— Какую свечу? — откликнулась она.
— Чтобы в окне горела, чтобы знал, ждешь.
— Даже в отравленном тумане, — добавил он, когда за возлюбленной закрылась дверь.
Но дорогу искать не пришлось, Варя сама приехала за ним в больницу. Но поехали они не домой, а в местный санаторий.
Очень по-советски построенный, в стиле ампир, с лепниной и огромными потолками. Правда, обслуживание было на уровне хороших европейских курортов.
Наконец-то удалось остаться наедине. Повесив на дверь табличку «Не входить. Тихий час» они стали одним целым. Души и тела их, так стосковались в одиночестве долгих лет, что они пропустили и обед и ужин, и только поздним вечером, все понимающая сестра-хозяйка, принесла им в номер остывший ужин и теплые булочки с какао.
Его любимая отдалась ему, даря себя без остатка. Ничего не стесняясь и не боясь. Он даже не мог представить себе, что можно так быть благодарным за неумелые ласки, за неподдельные стоны. Впервые он плакал от счастья, что кто-то там наверху, судьба или бог, какая разница, соединил их вместе.
Первым кого он принял после отдыха, был архимандрит.
Опять с просьбой. На этот раз, ни больше ни меньше, монастырю нужен был вертолет.