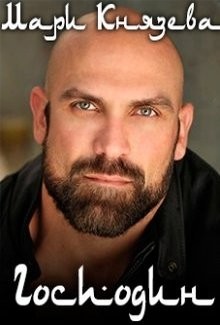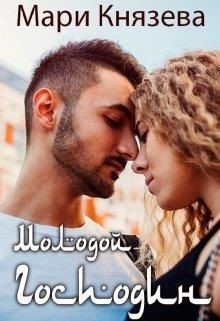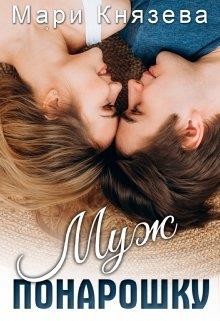— Ева.
Да и к чему мне его скрывать?
Амаль кивнула, взяла меня за руку, снова повела по коридору. Оказалось, в прачечную. Старушка спросила жестами, умею ли я гладить. Я кивнула. Амаль достала из сушилки и дала мне слегка влажную вещь — нечто вроде длинной рубашки поло из грубой белой ткани — и сделала приглашающий жест к гладильной доске.
Я со вздохом включила утюг и принялась расправлять рубаху. Что ж, глажка — это не страшно, это можно потерпеть, если таким образом я смогу остаться жива и невредима до появления доблестных защитников. Я не особенно люблю гладить — кто-то, наверное, даже назвал бы меня неряхой, потому что я глажу только парадно-выходные вещи, причем прямо перед выходом, а постельное белье и обычная одежда остаются без внимания моего утюга. Но это, конечно, не Бог весть какая тяжёлая работа, так что, наглаживая чью-то льняную сорочку я уже почитала себя счастливицей, учитывая то, как я раньше представляла рабство.
То, что я стала рабыней, мне доходчиво объяснили еще те люди, что пленили меня на корабле: на запястье мне надели тонкий кожаный браслет с металлической застежкой. Стоя прямо передо мной и совсем не мигая, худой жилистый мужчина средних лет нажал кнопку на маленьком металлическом приборе — и мою руку тут же коротко пронзила острая боль. Как будто мне воткнули иглу в запястье. Я невольно ахнула и схватилась за руку. Неприятно было демонстрировать этому негодяю, насколько мне больно, но удержаться я не смогла. Как только мне полегчало, я пошевелила пальцами, а затем сдвинула браслет в сторону — никаких следов, даже точки нет. Но боль была непереносимая!
Я, конечно, пыталась перегрызть браслет, порвать, стащить с кисти, но все тщетно — наверное, то была не кожа, а ее более прочная имитация. Надсмотрщик, правда, все же заметил следы моих зубов и тут же наказал меня, нажав на кнопку. У меня даже слезы выступили, хотя я, сколько себя помню, никогда не плакала от боли.
Вот и теперь все, кто принимал руководство мной, передавали друг другу этот крошечный металлический пульт. Бородач демонстративно держал его в руке, дородная дама сразу передала слуге, а вот Амаль сунула в карман передника — я даже прониклась к ней смутной симпатией из-за этого жеста, но тут же одернула себя: это может быть просто маска, чтобы втереться в доверие.
Рубашка разглаживалась плохо: очень уж грубая и сильно мятая ткань, но я старалась вовсю, давила и пыхтела, и результат выходил неплохой. Амаль не стала дожидаться, пока я доглажу сорочку, выключила утюг и повлекла меня дальше. Следующим испытанием стало мытье пола. Мне предоставили ведро с водой и тряпку. В комнате было по-настоящему грязно, как будто там нарочно топали в уличных сапогах, в которых до этого ходили по мокрой земле. Уборка значительно затруднялась обилием мебели, и мне приходилось на четвереньках заползать под стол, постоянно двигать туда-сюда стулья и банкетки. Я вся перепачкалась — правда, на том коричневато-сером одеянии, что мне выдали пираты, это было не слишком заметно. Я вымыла примерно треть комнаты, и вода стала такой глинисто-мутной, что в ней было положительно невозможно полоскать тряпку. Я попыталась объяснить Амали знаками, что пора менять воду. Она кивнула и повела меня дальше. После пола пришел черед окон, потом застилание постели, потом протирание пыли с полок и столиков и так далее и тому подобное. Я порядком вымоталась, когда мы с Амалью пришли в небольшую комнату со шкафами и лавками. Старушка выдала мне новую форму — более симпатичную, но тоже очень целомудренную: нежно-розовое хлопчатобумажное платье длиной чуть ниже колена с белым воротничком и передником. Переодетую и умытую, Амаль вернула меня на кухню. Сказала дородной даме несколько слов, кивая и улыбаясь — кажется, она была довольна тем, как я справилась с ее задачами. Я поняла, что мне нужно сделать все, чтобы остаться в подчинении у этой доброй женщины. Но у дородной дамы явно были другие планы.
Амаль приблизилась ко мне, показала пальцем на хозяйку кухни и негромко произнесла:
— Рукхун, — погладила меня по спине старческой мозолистой ладонью и ушла.
Рукхун давала мне более сложные задания, требовавшие сноровки и хорошей памяти: показывала, как сервировать поднос, а потом требовала повторить — и это было отнюдь не просто. Я старалась, чтобы не получить браслетом по руке, но в то же время понимала, что не стоит слишком усердствовать: во-первых, это отдалит меня от цели служить под командованием Амали, а во-вторых, мне вовсе не хотелось попадаться на глаза хозяевам этого роскошного дома: неизвестно, с какой степенью презрения и жестокости они относятся к рабыням. Я справедливо сочла, что мне будет выгоднее остаться за кулисами. Поэтому время от времени роняла вилки на пол и забывала положить на поднос что-нибудь нужное: солонку или салфетку.
Обучая меня, Рукхун называла каждый предмет на своем языке, но все эти кудахтающие слова казались моему уху одинаковыми, и потому запомнить их казалось невыполнимым. Это было, конечно, дикое ощущение: множество людей вокруг меня (на просторной кухне находилось не меньше десятка человек) разговаривало на незнакомом языке, я кожей чувствовала их враждебность, хотя никто из них даже не смотрел на меня — все были заняты делом.
Рукхун билась надо мной, наверное, часа два, но в конце концов сдалась и отослала к Амали.
Моя жизнь в чужом доме потекла спокойно и размеренно, я выполняла свои обязанности, жила в комнате еще с двумя служанками и никогда не видела хозяев. Другие девушки не носили такого браслета, как я — видимо, они не были рабынями — и им запрещалось со мной разговаривать, даже жестами, кроме как по делу, вроде "пойди туда, тебя зовут". Только Амаль занималась обучением меня языку — эти знания, правда, ограничивались названиями предметов и действий. Я честно старалась запоминать слова, чтобы не гневить свою добрую начальницу и оставаться при ней, пока меня не спасут.
Однако день проходил за днем, а блюстители в сияющих одеждах не появлялись. Я начинала впадать в отчаяние, потом усилием воли возрождала в себе надежду и снова падала в пропасть уныния. Не помню, сколько времени так прошло — я давно сбилась со счета, и мне даже негде было отмечать дни…
Глава 3
Моя прежняя жизнь: моя профессия (я работала веб-программистом), мой жених, мои родные и друзья — все подернулось мутной пленкой несбыточной тоски, будто это мне приснилось, будто это было не со мной, а с кем-то другим, а настоящая я — бессловесная, бесправная рабыня в чужом холодном доме, изо дня в день исполняющая однообразные действия. Мне казалось, что я тупею и схожу с ума, без конца натирая плиточные полы, снимая и развешивая занавески, застилая постели.
И однажды у меня стали появляться безумные, горячечные идеи, что лучше умереть, чем остаться здесь на всю жизнь. Конечно, я не смогла бы покончить с собой — для этого, по моему мнению, нужно окончательно свихнуться, а я пока была только в начале пути. Поэтому мне в голову пришел еще более изощренный план: вынудить хозяев избавиться от меня. Если бы я хорошенько его обдумала, то, наверное, поняла бы, что вот это действительно чистой воды безумие: ведь наказание за проступки могло быть непредсказуемо ужасным и невыносимым. Меня вполне могли выпороть, перепродать более строгим и жестоким хозяевам или Бог знает что еще… Но я не стала думать об этом. Мое воспаленное сознание требовало действий по изменению ситуации, а в какую сторону — уже не так принципиально.
И я начала подрывную деятельность. В один день испортила явно очень дорогие, расшитые серебряной нитью портьеры, заодно сорвав карниз, на котором они висели. В другой — насыпала в аквариум хлорки вместо корма для рыбок. Бедняжки повсплывали блестящими брюшками кверху — мне было жаль их до слез, но рука моя не дрогнула. На третий день я разбила очень красивое окно с имитацией витража.
Амаль качала головой, заглядывала мне в глаза и кудахтала: