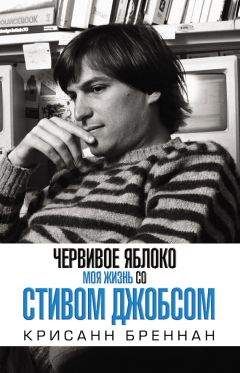Воображение рисует неясный образ жестокосердой чародейки. Какого цвета ее волосы, глаза, губы — не понять, ведь я не видела Хелену даже на фотографии.
С чего я взяла, что она бессердечна? — спрашиваю сама у себя. Не исключено, что их разлучили обстоятельства. Может, она была замужем и, крутя роман с Барлоу, изменяла супругу, а потом образумилась? Или ее родители выступали категорически против такого жениха, потому что знали о неких его тайных грехах? Обстоятельства их расставания могли быть самыми невероятными.
— Кто же она такая? — шепчу в темноту. — Эта твоя прекрасная Хелена?
Вздрагиваю, слыша шорох у противоположной стены, и замираю. Увлекшись мыслями о Хелене, признаться, я забыла о том, что Нейл лежит в этой же комнате. Неужели он все-таки услышал?
Мгновение-другое тешу себя мыслью, что мой «жених» всего лишь переворачивается с одного бока на другой и сейчас вновь погрузится в крепкий сон, но шум не стихает, и я, хоть уже и не смотрю в его сторону, с ужасом сознаю, что он поднимается и натягивает брюки. Чувствую себя злодейкой. Но что я такого сделала?
Щелкает выключатель, и в центре потолка загорается люстра. Черт! Не мог включить настольную лампу или хотя бы торшер! В более тусклом свете я не стыдилась бы смотреть ему в глаза, да и была бы не столь заметна разница между той мной, какой я расхаживала на празднике Мирабель — с прической и макияжем на лице, — и мной теперешней, умытой и с распущенными растрепанными волосами.
Нейл подходит к кровати, останавливается возле спинки и смотрит на меня мрачным испытующим взглядом. Заставляю себя повернуть голову и взглянуть на него.
— Я думала, ты спишь…
— Кто рассказал тебе о Хелене? — глухо, не своим голосом спрашивает он, пропуская мои слова мимо ушей.
— Гм… — По-моему, Стефани просила меня не рассказывать о нашей беседе. Или не просила, а лишь подразумевала это? — Какая разница?
— Верно, никакой, — соглашается Нейл, качая головой и глядя на меня немигающим потухшим взглядом. — К тому же я и сам знаю ответ: язык распустила либо моя маман, либо бабуля. Старые трещотки!
Сажусь, кладу подушку к спинке кровати и откидываюсь на нее. Видимо, грядет неприятный, возможно долгий, разговор.
— Они всего лишь слишком сильно тебя любят, — вступаюсь я за Стефани и Мирабель. — Хотят, чтобы твоя жизнь наконец наладилась.
— Она наладилась! — рявкает Нейл, и я вновь вздрагиваю. — Настолько, насколько это возможно. Большего я им дать не могу, хоть умри.
— Но ведь… нельзя же так… — бормочу я, придумывая, какие подобрать слова. — Ты не один такой на свете. Едва ли не каждому из нас рано или поздно приходится переболеть любовной горячкой. Меня вот тоже… — Умолкаю на полуслове, вспоминая о том, что и я, подобно ему, решила больше ни с кем не вступать в близкие отношения.
Нейл со странной болезненно-отчаянной пытливостью всматривается в мое лицо.
— Как видно, они не посвятили тебя в подробности?
Качаю головой.
— В подробности — нет. Но они в таких историях и ни к чему. Я поняла главное: ты страдаешь от расставания с любимой, а куда она делась — сбежала ли от тебя, не смогла ли ответить взаимностью на твои чувства, — это не столь важно.
— Она умерла, — глядя на меня исподлобья невыносимо тяжелым взглядом, убито произносит Барлоу.
У меня по спине пробегает морозец. Почему, когда разговариваешь с пышущим здоровьем и силой человеком, мысли о чьей-то смерти, которая отравляет ему жизнь, ни на миг не приходят тебе в голову?
На мою долю ничего столь жуткого, слава богу, пока не выпадало. Мне в любом случае легче. Я могу продолжать любить Маркуса, охладеть к нему или проникнуться неприязнью. Потому что знаю, что он где-то живет, дышит, ходит по тому же, что и я, городу и, вероятно, еще повстречается мне на пути. В случае же Барлоу… Страшно представить. Ему некому желать добра или зла, не на что надеяться, нет смысла за что-либо бороться или строить планы. У него после ухода любимой не осталось совершенно ничего.
— Когда это случилось? — тихо и осторожно интересуюсь я.
— Вообще-то у меня правило: не разговаривать об этом ни с кем, — пасмурно объясняет он.
— Но… наш случай исключительный, — говорю я. — Понимаешь, Стефани думает, что мы очень близки и я в курсе всего… — Осекаюсь. Я все-таки проболталась! — Только, пожалуйста, не выдавай меня!
Нейл складывает руки на груди и присаживается на край кровати. На нем белая футболка, она так обтягивает рельефный торс, что невозможно не любоваться им. Я делаю это исподтишка, когда он смотрит в другую сторону. С его губ слетает вздох.
— Выдавать тебя? Мне самому это ни к чему.
Киваю.
— Если Стефани или Мирабель еще раз заведут об этом речь и станут задавать вопросы, я точно ляпну что-нибудь такое, что они поймут: мы их просто дурачим. И потом… Впрочем, если тебе до сих пор слишком больно, — спохватываюсь я, — тогда это не столь существенно. Я даже готова выставить себя дурой. — Неуместно хихикаю, сознаю, что могу смехом сильнее ранить его, умолкаю и потупляюсь.
Он поворачивается и смотрит на меня благодарно-грустным взглядом. Я не вижу его, но чувствую это. Проходит минута, другая. Молчание становится невыносимым. Воздух будто сгущается, и делается трудно дышать. Я уже собираюсь солгать, что хочу спать, когда Нейл хрипловатым и тихим голосом произносит:
— Прошло шесть лет. — Прочищает горло. — Со дня ее смерти прошло почти шесть лет.
Я поднимаю на него глаза и вижу, что его лицо потемнело, а взгляд устремился в никуда. Такое чувство, будто он смотрит в прошлое и ясно видит перед собой до боли родную и любимую, но уже неживую Хелену.
Меня охватывает неукротимое желание крепко обнять его и взять себе хоть малую толику его страданий, но я боюсь вторгаться в его святую скорбь и сижу не двигаясь. Еще совсем недавно, видя его с очередной подругой или спешащим в спортивной одежде в клуб, я и представить не могла, что этот парень-атлет с немного высокомерным видом носит в сердце такую тяжесть.
Нейл долго сидит молча, потом обхватывает голову руками и начинает говорить, хоть я больше ни о чем его не спрашиваю:
— Мои родные ждут, что я «выздоровею». Знаю, мать тайком читает молитвы и льет слезы. Нет, я не тронулся умом и не вбил себе в голову, что Хелена была идеальной.
Чувствую, что даже произносить ее имя ему больно, и сижу тише воды ниже травы.
— Знаешь, как это бывает? — продолжает он, обращаясь будто не ко мне, а к невидимому собеседнику перед собой. — При жизни такой-сякой, а не успел умереть — был самый добрый и мудрый! — Он сжимает губы, наверное чтобы они не задрожали, и некоторое время молчит.