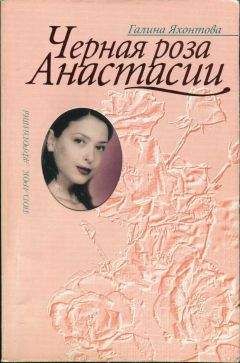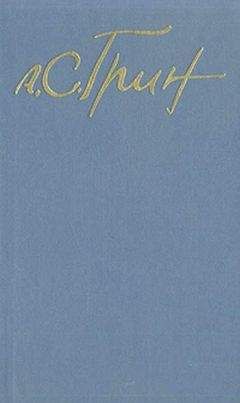— Я так рада тебя видеть, так рада! — Подруга поцеловала ее в обе щеки. — Знаешь, ты так похорошела, потому что…
— Потому что растолстела? — нетерпеливо прервала ее Настя.
— Нет, потому что ты выглядишь счастливой женщиной. Понимаешь, счаст-ли-вой! В наше время так редко можно видеть счастливую бабу.
— Да неужели? — засмеялась она.
— Да! Разве что Раиса Горбачева выглядела счастливой. До путча.
Сравнение, честно говоря, не слишком обрадовало Настасью.
— Как ты? Как Петропавлов?
— Слава Богу, выписали. Жив-здоров. А мне и грех с души… — Марина закурила, но тут же, спохватившись, погасила сигарету. — А я? Подрабатываю там же. Диссертация вроде готова. А личная жизнь… Да нет никакой личной… И мне уже скоро двадцать семь. Это все — кранты. — Она едва не плакала.
— Перестань распускать нюни. Пугачевой вон сколько, а она за мальчика замуж собралась.
— Ага, усыновила. — Марина саркастически улыбнулась.
— Я к тебе, в общем-то, по делу. — Настя давно заметила, что слово „дело“ вызывало у Марины нежелательные ассоциации, видимо, с тем, которое живет и побеждает.
— Слушаю тебя, — ответила она тоном партийной дамы.
— Я замуж выхожу. И приглашаю тебя на свадьбу. Венец держать.
— Замуж… — Кажется, у Марины перехватило дыхание. — За… кого? За Коробова?
— Нет, Марина, не за Коробова. Приходи — увидишь.
Анастасия оставила на столе около чашечки с невостребованной для гадания кофейной гущей „Приглашение“, на котором был нарисован маленький пухленький крылатый младенец с луком и стрелами. Точно такой же, как у входа в торговую точку Николая Поцелуева.
Теперь Настасья была очень занята приятными, хотя и трудными, делами. Например, тем, какое у нее будет платье. Платье, конечно же, будет настоящее, подвенечное. Широкое — не только с целью „сокрытия“ некоторых пикантных подробностей, но и потому, что сейчас модны просторные, драпирующиеся наряды. Она листала журналы, любуясь нездешними, фантастически выхоленными женщинами в вечерних туалетах. И они нравились ей все: блондинки и брюнетки, элегантные и экстравагантные, все без исключения, воплощавшие красоту стандарта, вещи, образа жизни.
Настя решила, что под венец она наденет вот такое, как на этой странице, белоснежное, украшенное кружевными цветами ручной работы с серебристыми тычинками. Такой же цветок она попросит парикмахера закрепить в прическе. Потому что какая уж тут фата. Для кого? Для нее или для шестимесячного невинного младенца Анастасий… Евгеньевны? Она очень хотела девочку, вопреки всем предсказаниям. А для ресторана подойдет красный шелковый костюм с красным же жилетом из „чешуйчатой“ парчи. Жилет будет длинный, просторный — почти до щиколоток и очень эффектный. Настасья подумала, что эти наряды великолепно будут сочетаться с черным фраком Пирожникова. И их пара не будет похожа на союз какаду и грифа. „Ах да, нужно не забыть заказать еще один кружевной цветок: Евгению в петлицу!“ — мысленно завязала она узелок на память.
А пока Настасья надела будничный костюмчик с регулируемой шириной юбки и отправилась в институт. Евгений с утра ушел в офис. Так что до института пришлось добираться, как всем не посещающим ночных клубов женщинам — на общественном транспорте.
В институте ее встретила июньская напряженная тишина последних дней сессии.
Она сдала последний экзамен, причем по иронии судьбы вытащила билет с вопросом о своей тезке Настасье Филипповне. И преподаватель, подивившись столь полному совпадению имен, поставил ей „отлично“.
Настя знала, что сегодня вторник, а значит, где-то в этих стенах находится и Удальцов. Она нашла в расписании экзаменов нужную аудиторию и, с легким скрипом приоткрыв тяжелую дверь, заглянула внутрь.
Он был одет в джинсовый костюм, и этот наряд делал его как никогда моложавым — как раз таким, каким она хотела его видеть.
Они медленно брели по Тверскому и Суворовскому в сторону Арбата. А потом, по обыкновению, пили кофе с бутербродами в „слепом“ цэдээловском кафе. Беседовали ни о чем — как старые друзья, как понимающие друг друга люди, как те, о ком Игорь сказал бы, что они были близки в прошлых жизнях.
— Знаешь, я рад за тебя. — Гурий Михайлович не лукавил. — Я всегда удивлялся, глядя на тебя.
— Чему?
— Тому, что тебе дана сила управлять мужчинами, а ты ею не пользуешься.
— Вы думаете, что я наконец-то научилась этому искусству?
— Нет, я думаю, что ты просто стала существовать в большей гармонии со своей душой.
— Вот так душевная гармония — кем-то управлять…
— Ты меня не поняла… Я хотел сказать, что ты стала женственнее, ведомее, по-хорошему пассивнее. А значит, привлекательнее.
— Да неужели? — Настасья инстинктивно положила руку на живот.
Удальцов улыбнулся неожиданной, отцовской улыбкой:
— Вот увидят нас тут вместе и скажут злые языки, что ребенок от меня.
— Уже говорят. — Она вспомнила Любу Ладову. — Вы не боитесь?
— Чего? Ха-ха! Да я горжусь!
Они оба непринужденно засмеялись, как маленькие дети.
— Мне, кажется, пора. — Настя посмотрела на часы.
— Смех у тебя серебристый… Да и мне пора… Давно пора… — Поэт вложил в эту простую фразу иные, более глубокие смыслы.
— Идемте?..
— Идем… Настя, я хотел бы попросить тебя об одной очень важной вещи.
— Какой же?
— Позволь мне быть крестным твоего малыша. Я долго думал, что я могу для тебя сделать. Ну, написать стихи. И все. А если ты мне позволишь, то между нами возникнет сопричастность друг другу.
От неожиданности Настя не нашлась, что ответить. Ребенка еще нет, она выходит замуж за другого. Еще и не венчана. А он — о крестинах.
— Я…
— Ты против?
— Нет, но это будет еще так нескоро! — Она вздохнула тяжело, как и положено женщине на шестом месяце.
— Очень скоро, Настя! Все в жизни происходит очень скоро. А я давно хотел тебе сказать. Но все робел. Я люблю тебя, Настя. — Он смотрел в сторону, словно боялся встретиться с ней взглядом.
— Зачем вы мне это говорите? Сейчас, когда…
— Затем, чтобы ты светло обо мне вспоминала, когда меня уже не будет. Я закажу еще шампанского, ладно? Ты только пригубишь…
— Так хочется выпить?
— Нет. Просто меня очень редко, слишком редко посещали настоящие чувства. Могу я за это поднять бокал?.. Я же не Евтушенко какой-нибудь, который банкет в честь своей тысячной женщины устраивает. И приглашает сотых-пятисотых… Тьфу, срамота! А ты — моя последняя любовь.
Он смотрел с такой печалью в глазах, что Настя не в силах была возразить.