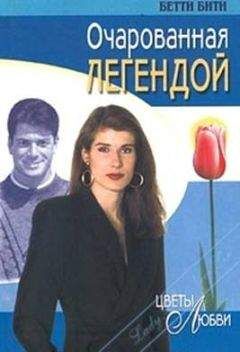Но меня уязвило его безапелляционное отрицание чувств скромного конкурента своим замечанием о чарагвайцах, которые забавляются, воображая, что они влюблены. Я знала, это намек на дона Рамона и меня. И что-то еще, не поддававшееся определению, придало моему гневу еще большее ожесточение.
— Без всякого сомнения, — так же громко и ясно ответил мистер Фицджеральд.
И словно придавая вес его словам, земля под нашими ногами заколебалась. Я услышала внезапный скрип и треск сосновых ветвей, а затем все происходило одновременно, как в суматошном фильме.
Что-то сильно ударило в круп моего пони. Мелькнуло на миг лицо мистера Фицджеральда, он оборачивается, его рука хватает мой повод, затем перед глазами завертелись кроны деревьев и — ощущение полета. Калейдоскоп разноцветных осколков. А затем полная абсолютная темнота.
Когда я снова открыла глаза, не могла понять сразу, где нахожусь. Воспоминания возвращались медленно. Я решила, что сплю, потому что происходившее было как сон — восхитительный сон. Я снова в темноте сада гасиенды с доном Районом. Снова он поцеловал меня, очень нежно, на сей раз в лоб. Вокруг полутьма, солнечный свет пробивался сквозь гигантские деревья подобно миниатюрным звездам. Воздух полон ароматом фонтана, как той ночью. Надо мной склонился мужчина, его голова и плечи выделялись на фоне мягкого сумрака, лицо скрывалось в темноте. Я попыталась сфокусировать зрение, отделить сон от яви.
— Дон Рамон?
Мужчина ответил не сразу. Затем медленно произнес знакомым, но все же каким-то другим голосом Джеймса Фицджеральда:
— Нет. Извините, что разочаровал вас. — Его тон стал безжалостно саркастическим. — Вы недостаточно долго пролежали без сознания, чтобы вызвать дона Рамона. — Он протянул руку и положил мне на лоб, словно намеревался стереть и безопасный поцелуй из сна.
— Мы все еще в сосновом лесу?
Я подняла голову, и сразу стало больно. Что-то неясное пощекотало мой подбородок. Серое, большое, успокаивающее и наконец опознанное как свитер мистера Фицджеральда. Я лежала на сосновых иглах. На них было мягко и они приятно пахли. Деревья остановили свой внезапный ужасный хоровод. Пони как ни в чем не бывало безмятежно паслись на расстоянии нескольких ярдов. Мистер Фицджеральд стал на колени, наклонился надо мной и заглянул в лицо. Случайному наблюдателю, не знавшему обстоятельств, картина могла показаться весьма романтической.
— Долго я была без сознания?
— Пятьдесят две секунды.
— О, — вздохнула я.
Достойней было бы оставаться в обмороке подольше. Возможно, если бы я хорошенько поработала над этим, как Ева.
— Пони испугались землетрясения. Вьючная лошадь налетела на вашу.
Ева постаралась, подумала я, и немедленно устыдилась своей вопиющей несправедливости.
— И вы не были готовы.
Он осуждающе покачал головой. Но потом поднял мою руку так нежно, словно хотел показать, что в этих обстоятельствах не хочет делать выговор. Мое горло перехватило от этой необъяснимой и нежданной нежности. Но дело оказалось в другом. Он увидел на моей руке незамеченную мной сгоряча царапину, которую теперь начало саднить. Джеймс Фицджеральд бережно снял с кожи приставшие сосновые иголки и песчинки.
— Теперь ваша голова. Наклонитесь вперед. — Он довольно мило улыбнулся. — Давайте осмотрим место, которое не знает, как управлять сердцем. — Его пальцы осторожно исследовали мою голову. — М-м-м… не больше голубиного яйца. Не думаю, что у вас реальные повреждения, но следует удостовериться. Ноги в порядке?
Я кивнула и подняла сначала одну, затем другую.
— Хорошо. — Он улыбнулся мне, как ребенку. — Мы не хотим, чтобы вы стали еще одной Евой. — И как ребенку, начал неторопливо и без затруднения расстегивать блузку. Я крепко зажмурилась. Интересно, чувствовал ли он при клиническом исследовании моей грудной клетки лихорадочное биение сердца.
Я снова открыла глаза, когда первый секретарь бодро произнес:
— На ощупь вроде ничего не сломано. Но лучше завтра зайти к врачу, потому что у нашей медицины выживания в джунглях нет рентгеновских глаз.
Он выпрямился и улыбнулся.
— Теперь наденьте мой свитер. Я приложу кое-что к ссадине, а потом вам останется лишь пережить возвращение домой.
Покорно я натянула огромный теплый свитер. Потом смотрела, как он опустил руку в карман брюк и извлек маслянистый шелковый конверт комплекта скорой помощи, который, из-за риска инфекции, мы всюду носили с собой. Он сломал печать.
— Не думаю, что вы прихватили свой, не так ли?
Я отрицательно покачала головой. Комплект не влезает в сумочку и будет выпирать из кармана костюма. Это казалось таким дурацким тщеславием — словно Джеймс Фицджеральд заметит. Он слегка улыбнулся, с порицанием и нежностью, потому что жалел меня не только за страдания, но и по другим причинам.
— Если обещаете не кричать, — сказал он, умышленно обращаясь ко мне, как к ребенку или младшей сестре, — я куплю вам дополнительный напиток в самолете.
Затем он помазал уродливую ссадину на моей руке желтой жидкостью из крошечной пластмассовой баночки. Вдруг он замер, озадаченный слабыми глупыми слезами на моих глазах.
— Так сильно болит? — мягко спросил мистер Фицджеральд.
Я отрицательно покачала головой. Просто внезапно у меня открылась другая рана, глубже и неизлечимей. И она адски болела.
Ссадина на руке, но не глубокая внутренняя рана, зажила быстро. Через неделю только стертый розовый шрам на запястье, как выцветший лепесток розы, напоминал о злополучном дне. Когда мои пальцы летали по клавишам пишущей машинки, я старалась не смотреть на него, так же, как старалась не смотреть на Джеймса Фицджеральда. Я сознавала, что время тоже пролетело. Недели, а теперь дни моей командировки истекали. Скоро я вернусь в размеренность лондонского кабинета. Не будет ни красивого дона Рамона, чтобы буквально сбить меня с ног незабываемым поцелуем, ни сурового первого секретаря, чтобы твердо опустить меня на землю. Не будет головокружительной высоты, палящего солнца. Не будет романтичных чарагвайцев, чтобы увековечить их мифы о романтической и опрометчивой любви. Не будет волшебства.
Как ни грустно оставлять эту чарующую страну, мне требовалась терапия Лондона и маленькой комнатки, где я работала. Я стала очарованной, как сам Чарагвай. Меня обуяли противоречия, я раскололась надвое. Той ночью в гасиенде «Дель Ортега» я на несколько кратких секунд испытала любовь, о которой и не мечтала, волнующую и всеобъемлющую любовь, как в книгах и у маленьких инкских принцесс, любовь, сделавшую меня слабой, беспомощной и послушной. Я поняла, что значит коснуться высот романтического влечения, что, видимо, и есть любовь. И все же на горном склоне Беланги, лежа на сосновых иглах с больной головой, ущемленной гордостью и исцарапанной рукой, я почувствовала такую заботу, такое чувство защищенности от своего сурового первого секретаря, что испытала чувство столь же нежное, столь же реальное. И даже более невозможное.