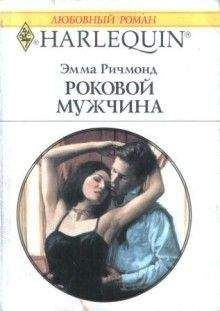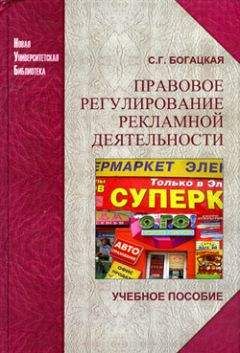– Да, я вижу, – согласился он тускло, – ты ведь даже не собиралась мне ничего сообщать, не так ли? Ребенок мой, насколько я пони… Конечно же, мой, – кивнул он устало. – Извини. Я прошу прощения. Мы поженимся…
– Не говори вздор, – резко прервала она его. – В наше время беременность давно уже перестала быть причиной для брака. И я еще могу ошибаться…
– Но ты сама ведь не думаешь, что это ошибка?
Слезы снова затуманили ее глаза, и если перед тем она вообще не хотела ничего говорить, то теперь не могла и не хотела остановиться. Она отчаянно пыталась предотвратить любое проявление его донкихотства.
– Ты не хочешь иметь жену, семью, ты сам так сказал. Да и вообще, даже если я и беременна, то могу сделать аборт…
– Нет! – прервал он ее – и не сумел скрыть удивление от собственного невольного порыва. – Нет, – повторил он спокойнее. – Я этого не хочу.
Она тоже не хотела. Узнав о своей беременности, даже не подумала об аборте. Как-то просто и сразу решила, что этот ребенок появится на свет.
– Я не хочу, чтобы ты женился на мне, Генри, – повторила она тихо. – Пожалуй, сейчас я бы не отказалась от чашки чая.
– Сейчас сделаю, – предложил он. – Садись, Гита.
Она послушно уселась, сложила руки на столе. То, что она сказала ему о беременности, принесло ей великое облегчение. Словно огромная тяжесть упала с ее плеч. Нащупав носовой платок, она высморкалась. Вытерла слезы.
Генри принес чашку чая, поставил перед ней и уселся напротив.
– Я не специально это сделала, Генри, – тихо сказала она, не поднимая глаз.
– Знаю. – Он добавил: – Я просто был немного в шоке. Ты уже была у доктора?
Она помотала головой.
– Ты должна обязательно сходить. – Он отпил свой остывающий кофе, вздохнул. – Почему ты не хочешь выйти за меня?
– Ты знаешь почему.
– Потому что думаешь, что я тебя не люблю?
– Потому что я знаю, что не любишь.
– Я – отец… – тихо сказал он. – О Господи!
– Да. Мне очень жаль.
Глядя, как она сцепила руки вокруг чашки, он внезапно ощутил ошеломляющую потребность защитить ее. Она выглядела такой потерянной, такой грустной. И даже с опухшим лицом и покрасневшими глазами все равно казалась ему необыкновенно красивой.
– Мое представление о тебе было испорчено намеками Люсинды, – сказал он тихо и задумчиво. – Так что, как понимаешь, я совсем не знаю, какая ты на самом деле. Какой была, прежде чем все это случилось. И мне хотелось бы тебя узнать. Поговори со мной, Гита.
– В этом нет никакого смысла. Я привязалась к тебе, а ты…
– …предал тебя. Так же подло, как и Люсинда, – закончил он за нее. – Я знаю это.
Криво улыбнувшись, она принялась чертить пальцем воображаемые узоры на старом деревянном столе.
– Она сказала, что это было отвратительно.
– Что именно? – мягко спросил он.
– Мы. Она ведь видела нас. На полу кухни.
– Я лично не нашел в этом ничего отвратительного. А ты?
Беспомощно вздохнув, она снова принялась водить пальцем по столу.
– А я думала, что мне ужасно повезло, – тихо, с горечью сказала она. – Я всегда думала, что мне везет.
– Потеря родителей в раннем детстве вряд ли может считаться везением.
– Не может, – медленно кивнула она. – Но мне повезло, что моя тетя согласилась принять меня. Она была доброй, чудесной, любящей женщиной.
Но у крошечного человечка, растущего внутри ее, не будет тети, не будет даже нормальных родителей. Эта мысль вызывала у нее страшную тоску и отчаяние. Она всегда думала, надеялась… Смахнув слезы, Гита поспешно отпила чая.
– Все, видишь ли, зависит от точки зрения, – продолжал Генри. – Люсинда считала себя невезучей, так как у нее умерли родители. Хотя ее и удочерила супружеская пара, которой она противилась, не позволяла себя обожать.
Удивленная, Гита невольно подняла на него глаза.
– О ком ты?
– Я ездил их повидать, пока тебя не было. Они сейчас живут в Норфолке. Свой коттедж в Шропшире они оставили Люсинде. Никто особо не знал их, пока они жили там. Это очень тихие люди, необщительные, и наше семейство всегда довольствовалось версией Люсинды об их характерах. Мы ошиблись в Люсинде, так что, вероятно, ошибались и в них тоже.
– Ты рассказал им о том, что произошло?
– Частично. Знаешь, они ничуть не выглядели удивленными. Похоже, что бы они ей ни давали, что бы ни говорили или ни делали, для нее все было неприемлемым. Она хотела луну с неба и не соглашалась на звезды. Она просто не позволяла им стать для нее настоящими родителями. Они говорили, что она старательно создавала у окружающих мнение, что приемные родители недобры к ней. На самом деле все было не так. Между прочим, она никогда их не навещает. Никогда не звонит им.
– Я знаю. Мне всегда было ее очень жаль.
– Как и всем остальным.
– А я-то думала, что между нами существует особая связь из-за сходной судьбы. То, что мы обе потеряли родителей в раннем детстве, казалось мне, создает нерушимую связь между мной и Синди. Но я была той, которой больше повезло. Меня любили.
Она гостила у нас с тетей во время школьных каникул. Моя тетя всячески баловала ее, старалась хоть как-то возместить ее несчастливую жизнь дома.
– А ее приемные родители никогда и не пытались защитить себя или хоть как-то оправдаться. Просто становились все тише и наконец, не выдержали и переехали. Ты, Гита, ищешь и находишь во всем положительное. Люсинда, напротив, всегда искала негативное. В прошлом, разумеется.
– Да. Но что скажет твоя мать насчет ребенка? Ты ей расскажешь?
Он странно улыбнулся.
– Да, конечно. Было бы очень глупо это скрыть. Если она узнает из других источников… Моя мать очень… Я хотел, было, сказать – властная, но это не совсем так. Ей нравится самой стоять у руля. Она думает, что знает, чего кому надо. В присутствии моей матери нелепо говорить о своих симпатиях или пристрастиях, она сама решает, что хорошо, что плохо. Если ей понравится чья-то идея, она в лепешку разобьется, чтобы добиться всего для этого человека. Если же не понравится, то можно считать, что с нею покончено навеки. В самом раннем возрасте я понял, что моей матери нельзя ничего откровенно рассказывать. Гита, меня годами заставляли заниматься игрой на фортепьяно потому только, что в пятилетнем возрасте я как-то случайно ляпнул, что мне нравится слушать, как кто-то из взрослых играет на нем.
Она слабо улыбнулась. Он того и добивался.
– Моего отца она буквально насильно заставила играть в гольф. Якобы это приносило пользу его здоровью, – добавил он, усмехнувшись. – Мой отец и я довели искусство непроницаемого лица до совершенства.
– Значит, ты привык никому и ничего не рассказывать? Надел маску холодности и бесстрастности?