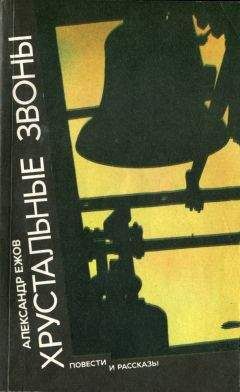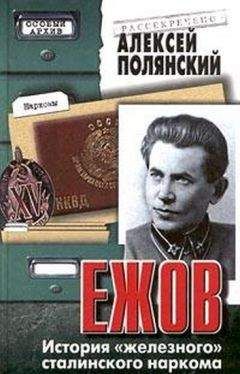— Сейте,— согласился Грау,— но землю разделите. Колхоза не будет. Вермахт разрешает частную инициативу. За сдачу хлеба отвечает головой староста. Потребуем сполна.
Сказал, словно отрубил, и спрыгнул со стола.
Народ зашумел, заволновался: шутка ли — три тысячи пудов!
А что самим останется? Солома да мякина... Эх, Максимов, Максимов! И зачем пообещал? А вдруг земля не родит и люди не захотят гнуть спину на фашистов?
Семена, которые обещал выделить Грау, не поступили. Собирали зерно с каждого двора по нормам, которые определило подпольное правление колхоза. Действовали осторожно. Предварительно выявили возможности каждой семьи, собирали семенное зерно в основном на добровольных началах. Все знали, что надо сеять: не посеешь, как говорят, не пожнешь. Сеяли рожь старики, женщины и подростки заборонили, и земля пустовать не осталась.
Когда подоспел сенокос, траву косили тоже сообща, артелью. В одиночку косили — что поближе, а на дальних пожнях — для общественного стада. Все шло своим чередом. Но оккупанты стали догадываться о чем-то: все от них скрыть было нельзя, просто невозможно. Грау вызывал Максимова, орал на него:
— Поощрять надо частную инициативу! А у вас что? Скопом работаете.
Максимов объяснял через Настю, изворачивался, как мог, говорил, что в России, дескать, и раньше крестьяне работали общиной и называлось это «помочью».
— Община,— квакал Грау. — Я покажу тебе общину. На веревке будешь
болтаться.
Чертыхался, грозил, стучал кулаком по столу, но Максимов был невозмутимо
спокоен, неторопливо вертел в руках кисет, не спеша свертывал самокрутку, долго высекал кресалом искру, прикуривал, молчал. Но Грау еще пуще свирепел, казалось, он выхватит из кобуры пистолет и выстрелит в Максимова. Настя толкала старосту туфлей в сапог, предупреждала об опасности, а Максимов все дымил и молчал.
— Земля была разделена. — Грау уже сбавлял крикливость на обычный разговор. — Землю поделили, а работаете как?
— Люди привыкли артельно работать,— стоял на своем Максимов. — Привыкли, господин обер-лейтенант. И до колхозов так работали.
Настя переводила слова Максимова, с беспокойством поглядывала на него и думала: «Тяжелую ношу взвалил на свои плечи Алексей Поликарпович. Надо и урожай вырастить, и фашистов обхитрить, раздать зерно колхозникам и партизанам помочь. Оккупанты наседают с каждым днем все наглей, того и гляди, раскроют все планы подпольного колхоза. И что тогда?»
Офицер между тем как бы читал мысли старосты, впивался в него совиными глазками:
— С партизанами связь держите? Под их дудку пляшете?.. Доиграешься, староста. Если хлеб не сдашь сполна, расстреляем.
Максимов отвечал с крестьянской хитрецой:
— Цыплят по осени считают.
Настя дословно перевела эту фразу. Немец не понял, погрозил пальцем:
— Каких цыплят? Я покажу тебе, старый, не только кур, но и скорлупку от яиц. Будешь жрать ее сам, скорлупу. Говори, в чем дело, мокрая курица! Выкладывай мне своих цыплят! Придет осень — новых потребую!
— На осень заглядывать не будем,— уклончиво отвечал Максимов. — Будет осень — будут и яйца. А не будет яиц — скорлупу будем есть.
Настя переводила эту фразу, переиначив:
— Куры много принесут — для всех хватит.
Грау кивал головой в знак согласия и отпускал с миром старосту и переводчицу.
Фашист не раз грозил Максимову и расстрелом, и виселицей, а в лучшем случае обещал посадить в кутузку на казенные харчи. И всякий раз Настя выручала старика, переводила слова Максимова таким образом, что немец оставался довольным и отпускал его. А бывало так: после очередной беседы в комендатуре Грау приходил в гости к старосте на дом, приглашали и Настю. Максимов угощал немца медком, самогончиком с калгановым настоем, затем, если была это суббота, приглашал в баньку, парил березовым веником сутулую спину коменданта, после баньки снова угощались медовухой, и немец добрел, хвастался тем, что в Германии у него хорошая усадьба, что породистый скот, что растет отменный картофель и что этим картофелем он откармливал свиней.
— А что тут? Дыра. И небо у вас дырявое. И лес темный, буреломный: пойдешь — ногу сломаешь.
Настя с усердием переводила Максимову все разглагольствования обер-лейтенанта, Максимов слушал, кивал головой, поддакивал, иногда хмыкал и подливал «гостю» новую порцию самогона. Грау пил, закусывал огурцом и вслух мечтал о том, что окончится война и что он как победитель вернется в свою благодатную Баварию пить пиво, выращивать картофель и отвозить на бойню откормленных свиней.
Уже в конце июля в Большой Городец нагрянула беда, может быть, и не самая большая беда, но она, эта беда, была словно бы предвестницей новых больших бед и новых тяжких испытаний. Из райцентра фашисты прислали комиссию по определению урожая на корню. А что это обозначало — знал почти каждый: после уборочных работ все заберут подчистую. Тут уж как ни крути, а вынь да положь: сам не отдашь — возьмут силой.
Комиссия отправилась в поле, где наливалась рожь. Немецкий интендант, низенький и кривоногий, выпячивая пузцо, быстро перебирая короткими ножками, пошел вдоль полосы, сорвал несколько колосков и своими пухленькими ладонями быстро-быстро начал растирать их. Затем пофукал на ладони, сдунув шелуху, и горсточку зерен ловким броском отправил в рот, начал жевать. Пожевав, проглотил. Лицо расплылось в улыбке и, подбежав к старосте, на ломаном русском языке начал говорить:
— Путь, путь... Скольки? — И сам себе ответил: — Путь сто. Тяк?
— Так-то оно так, да не совсем так,— ответил Максимов.
— Скольки с гектар?
— Пудов шестьдесят — больше не получится. — Максимов упрямо мотнул головой. — А посередке поля — и того меньше. Плешин не сосчитать, голых мест.
— Плесин... Что такое плесин?
Максимов снял кепку, наклонился и показал немцу на свою плешивую голову. Плешь у старосты была небольшая, с редкими волосинками на макушке.
— Вот как тут плешь,— проговорил Максимов.— Почти голо,— и, махнув рукой в поле, добавил: — И там голо — плешь.
Немец разгадал хитрость старосты, насупился и, разгребая короткими руками стебли, направился к середине поля.
— Пошель, пошель,— манил он за собою старосту, тот нехотя поплелся за интендантом.
Вернулись минут через десять. Настя услышала, как немец угрожающе твердил одно и то же:
— Сто путь. Сто.
— Ну сто так сто! Пускай будет сто,— махнул рукой Максимов. — Пишите хоть двести. Цыплят по осени считают...
Задание на сдачу хлеба было дано заведомо нелояльное. И как выкрутиться из этого положения, подпольные правленцы и сами не знали. Вносились разные предложения, но ни одно из них не было принято. Хлеб решили убирать. Надеялись на то, что немецкий гарнизон уйдет из села. А когда немцев не будет, и выход из положения найдется сам собой.