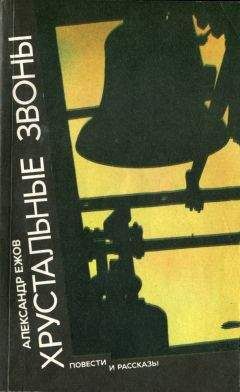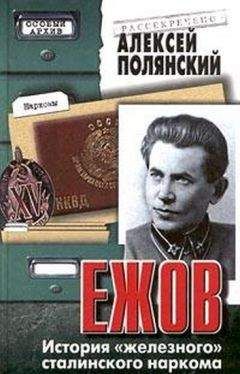В палате стояла тишина, мертвая, томительная. Сосед запыхтел, заглянул в тумбочку, предложил Федору:
— Давай напишем, что ль, жене? Сам не можешь — помогу. Бумага и карандаш есть.
Федор задумался. Пошлешь письмо — почерк другой, не его, Федоров, почерк. Будет думать: что с руками? А он пока не хотел открывать тайну жене, не хотел…
— Что молчишь?
— Ладно, пиши,— неожиданно для себя согласился Федор и стал диктовать.
Трудно складывались нужные слова. О том, что сильно покалечен, решил не писать. Настя была последней зацепкой в жизни, последней надеждой, и он боялся, что эта последняя надежда может рассыпаться, рухнуть, развеяться в прах.
Ответа не приходило, и он затосковал, загрустил. Жива ли? Может, и нет никого в живых. Может, и деревня сгорела. Война — злодейка, она никого не щадит, людей загублена тьма-тьмущая и счету нет. А может, замуж вышла? Устала ждать. Молодая, красивая. Подвернулся какой-нибудь... Подумал так, и голова у самого закружилась, сердце зашлось. И, словно бы угадав его мысли, сосед сказал:
— Чего боишься? Напишем напрямки. Если откажется, значит, дрянь баба. Пустышка, и только...
— Не баба она, — возразил Федор, — царевна. Редкой красоты женщина. Люблю и боюсь.
— А чего боишься?
— Покалечен...
— А, чай, не в драке поувечили, а в честном бою. Гордиться надо, а не бояться.
Сосед уломал его, и написали, как оно есть, все без утайки. Но ответа Федор опять не получил. Его перевели в другой госпиталь, и он больше уже не писал. Не мог писать. И вот хирург сказал, что пора на выписку. Внезапно все это получилось. Испугался, не знал, что и делать. Нужно ехать, а куда? Эх, Настя, Настя! Приеду, свалюсь как снег на голову: принимай, жена, такого, каков есть. Легко сказать — принимай. А вдруг у нее другая любовь, другая жизнь? Тогда почему молчит?
И все же решил ехать домой. Как говорят, была не была… В инвалидный дом никогда не поздно. Почему в инвалидный? Нет, нет, он не будет лежебокой, иждивенцем на готовых харчах. Он найдет свое место в жизни. Обязательно найдет.
Глава двадцать третья
Федору дали в провожатые медицинскую сестру Веру. Она уже не первый раз сопровождала в дальние и ближние веси безруких, безногих, слепых, всех тех, кому нужна была в пути посторонняя помощь. Федор сначала отказался от проводницы, потом согласился: как-никак вдвоем веселей. Все живой человек рядом. В крайнем случае, если не примет Настя, поддержит Вера в трудную минуту. Определит, куда надо.
Он был печален и неразговорчив. Сидел тихо и почти безотрывно глядел в вагонное окно: перед глазами мелькали поля, подернутые туманной дымкой, березовые рощицы, по-осеннему грустные. Он смотрел на все это, и ему так захотелось остановить поезд, выйти из душного вагона, уединиться в укромном уголке и вспоминать, вспоминать прошлое...
И он вспоминал... Вспомнил детство, теперь уже такое далекое и безвозвратное. Рос, как и все деревенские ребятишки, не баловнем: рано привык лямку тянуть, был смел и вынослив, и все пригодилось потом, в крутую пору военного лихолетья. Федор рос крепким парнем: ноги его были пружинисты и бойки, а руки крепки и проворны. Он не боялся никакой работы. Если надо — жал рожь, да так, что бабы не поспевали за ним. Плел из прутьев корзины, да такие, что любо заглядеться. А когда метал стога, то поддевал на вилы такую увесистую копну сена и так ловко и легко ее подкидывал, что отец, забравшийся на верхотуру, кричал с опаской:
— Ты, Федька, полегче! Полегче гляди! Едва на ногах стою. Смотри, опрокинешь!
А Федор работал играючи. Легко и споро работал. Если надо, ремонтировал трактор или комбайн, разбирался не хуже заправского механика в различных марках моторов. А когда разливалось половодье, ловил рыбу наметкой до полуночи, не зная устали, вязал сети. Ладил из жести трубы, делал противни, на которых деревенские бабы пекли вкуснющие пироги, на зорьке звонко отбивал косы. А как он косил! Словно сбривал траву острой бритвой — чисто и ровно, а на траве блестела изумрудными блестками утренняя роса.
Особенно любил Федор работать в лесу. И не летом, а в зимнюю пору, когда ядреный морозец бодрит тело, как бы подгоняя: «Пошевеливайся, друг-человек, не зевай!» И Федор кипел, везде поспевал. Пилил кряжи двухручкой так, что напарник через каких-нибудь полчаса с мольбой просил о перекуре. Легко и весело наваливал толстенные комли хлыстов на дровни, предварительно накрепко воткнув в бревно сверкающее острие топора. В таких случаях напарник говорил ему:
— Сила у тебя, Федька, медвежья. Борцом тебе быть, тяжеловесом.
На морозе он работал частенько без рукавиц. И руки не мерзли. Кровь играла в нем, согревала все тело. Он брал в горсть ком рыхлого снега, обтирал обжигающей студенью пальцы до хруста в суставах, затем хлопал в ладоши и бежал рысцой рядом с дровнями версты три, а то и все четыре, насвистывая что-то веселое и озорное.
И недаром его полюбила Настя — самая красивая девушка в округе. Он вспомнил, как ехал с Настей в райцентр на резном возке, на том возке, который он смастерил сам. Возок был всем возкам на диво, хоть в музей на самое видное место его ставь. Ехал с Настей на концерт самодеятельности. В возок был впряжен вороной жеребец-трехлеток, сильно горячий, почти необъезженный. Он мчался резво, пофыркивая, грациозно изгибая шею. Федор крепко держал в руках вожжи, и упругий ветер со свистом и воем, с россыпью колючих снежинок обволакивал лицо, шею, грудь и уносился назад, в безмолвное пространство зимних полей.
У Федора было радостно на душе. Он смотрел на невесту и улыбался. Впереди была счастливая жизнь. Настя поступала в институт на заочное отделение, изучала немецкий язык, хотела стать учительницей в местной школе.
Счастье, счастье!.. А вот оно и порушилось, пронеслось на вороных по снежному полю, блеснуло молнией, укатилось в неоглядную даль. Счастье! А может, оно еще обогреет его? Ведь едет домой, к жене. Настя, Настя! Знала бы ты, как Федор стосковался, как он по-прежнему любит тебя!
На железнодорожной станции было пустынно и тихо. Вокзальчик, как подметил Федор, сгорел. Стояла времянка, что-то вроде финского домика. Но местность Федор признал. Он заволновался в предчувствии свидания с родной деревней, с людьми, с Настей. На вокзальчике его никто не встречал, да и некому было встречать. Мать с отцом умерли перед самой войной, а Насте телеграмму не посылал — решил приехать внезапно.
Стоял уже поздний вечер, и сильно подмораживало. Над водонапорной башней мерцал золотистый серпик луны. Пахло морозцем, каменным углем, дымком. Эти острые запахи кольнули в сердце, закружили голову. До Большого Городца нужно было идти километров восемь. В ночную пору — путь не близкий. Но пожитки у Федора были невелики — небольшой вещмешок, да у Веры маленькая кошелка. Дорога звенела под ногами. Морозец крепчал. Стояла уже та пора поздней осени, когда все погружается в глубокий покой. Федор шел и смотрел по сторонам. Все было знакомо ему: и оголившиеся ольховые заросли вдоль канав, и сами канавы, вырытые еще в аракчеевские времена, остекленевшие первым ледком, и телефонные столбы, однотонно гудящие на ветру, и поля в полумраке ночи, чуть-чуть припорошенные первым снежком, и даже небо, лунное и звездное.