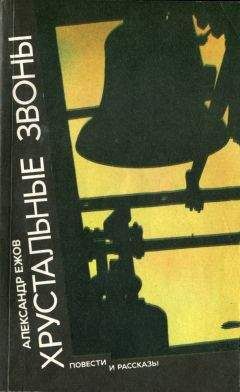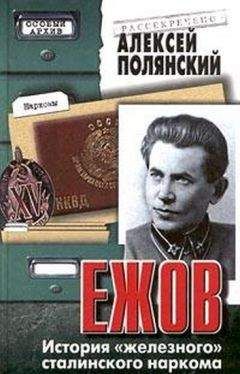заиграли желваки, и дышать стало тяжело. Он пытался унять в себе волнение и не мог.
— Все думали, что тебя и в живых-то нет. Пропал...
— Почему пропал? Почему так думали? Похоронку, что ль, получили?
— Нет. Похоронки не было, — спокойно ответила Настя. — Блинов Геша вести страшные привез. Сказал, что погиб...
— Так, значит, Гешка. Ах, вон оно что! Теперь понятно. А я всем смертям назло жив остался. Живой! Видите, живой!
— Видим, видим, зятек. Живой-то живой, да... — теща не договорила и с жалостью смотрела на Федора, чуть ли не плакала. — Без рук-то как? Ни дров расколоть, ни огород вскопать... Как жить-то?
Федору было горько слушать причитания тещи. Он не хотел, чтобы его жалели. Не хотел! Жалость и сострадание со стороны других вызывали чувство внутреннего протеста, даже неприязни к тем людям, которые его жалели. В голове кружилось и вихрилось: «Зачем приехал? Зачем? Были б дети — другое дело. Настя молодая, красивая, найдет другого, по себе. А я теперь для чего тут? Для чего? Исковеркаю чужое счастье, изломаю». Да он и не поехал бы, если бы не любил Настю. Всегда страдал, еще там, в госпиталях, когда думал о том, что Настя ласкает другого, стирает для другого белье, готовит обед другому... Ему горько было думать об этом, но иногда так размышлял он, и видимо, не без причины.
— Что живого отпеваете? — вырвалось у него. — Не нужен — так прямо и скажите! Не боюсь правды. Вся правда со мной. Вот смотрите!..
— Федя, Федор, успокойся! Никто тебя не гонит. Все обдумаем, обговорим. — Так сказала Настя и не смогла скрыть волнения. — Во всем война виновата! Только война...
Она смотрела на Федора большими печальными глазами, и он уловил в ее поведении что-то неладное, какое-то смятенное чувство у нее на душе. А что? Он не мог понять.
— Смотрите, не нахлебник я вам! — вырвались слово обиды. Он не хотел так сказать, а почему-то сказал.
— Поговорим вдвоем, наедине, — предложила Настя. — Мама, ты иди, спи и Веру уложи. А мы с Федором потолкуем.
На столе горела керосиновая коптилка. Красный огонек с черным вьющимся хвостиком слабо подрагивал. Федор глядел на это живое и трепетное сердечко огня и думал о том, как отразилась война на всех мелочах быта людей. Вместо лампы — коптилка, потолок потемнел. Но что поделаешь, керосина не хватает, да и мало ли теперь чего не хватает. Вот стены и потолок не мешало бы оклеить, но где купишь обои? Днем с огнем не найдешь. И все война. Если б не было ее, как бы жили хорошо, и у него, у Федора, судьба сложилась бы по-иному. Другим бы он был, не таким. И стало больно от мысли, что не станет прежним. Война закончится. Появятся и обои в продаже. А что с ними, с этими обоями, будешь делать без рук-то? И коптилка исчезнет — будет гореть электричество. Непременно будет! И дома будут новые. Все будет, все изменится, только он, Федор, останется безруким на веки вечные.
Настя сидела тут же и долго молчала, и он молчал, глядел на нее и задавал вопрос: «Зачем приехал?» 3атем запретил себе так думать, отогнал эти мысли. Ведь он, Федор, если справедливо-то разобраться, за нее, за Настю, и погибал там, на фронте. Чтоб сбереглась для него, для Федора.
Наконец спросил:
— А жила-то как? Расскажи.
— Жила не в покое, — ответила она. — Несладко нам тут жилось.
— Я понимаю, несладко. — Федор немного помолчал, затем добавил: — А без мужиков-то как обходились?
Она не отвечала, хотя и поняла двусмысленность этого вопроса. А он смотрел на нее и ждал.
— Без мужиков-то как? — снова спросил он.
— Как вы на фронте без баб, так и мы тут.
— Теща-то не зря намекнула, будто ухажер у тебя был...
У Насти замерло сердце, словно насквозь он ее просветил, заглянул в душу.
— Что ж молчишь? — не унимался Федор. — Отвечай, аль грешок какой есть? От деревенских все равно узнаю.
Он пристально смотрел на нее. И она увидела, как он натужно дышит, внутри у него все клокочет: он ждал правды, и больше ничего другого не ждал.
И вдруг она осмелела:
— Я тоже смерти глядела в глаза. И не раз! Сквозь ад прошла!
— Это через какой ад-то?
— Разведчицей была. Смерть со мной ходила рядом, и не раз. Ну, что скажешь на это? Может, документы показать, награды?
Федор опешил. Не ждал такого ответа. Значит, партизанкой была. Воевала.
— В партизанах небось ухажер был?
— Ну что пристал? Был ли, не был. Ну, а если и был, что из этого?
— Как что? Ты ж замужняя, должна была ждать законного мужа.
— Жди, когда сказали, что погиб ты. В окружение попал.
— Кто сказал? Ведь тут были немцы.
— Гешка Блинов. Вот кто. Уж говорила тебе.
— Блинов? — удивился Федор. — А что, он живой?
— Вот в том-то и дело, что жив. Вернулся безногим.
— Ну и дела! И что же сказал он тебе, Гешка?
— Сказал, что погиб. И документы твои передал. В подтверждение своих слов.
— И ты решила, что свободна?
— Решила.
— И на письма не ответила,— снова начал попрекать Федор. — Ведь писал же...
Она похолодела. Да, не ответила на его письма. Не знала, как отвечать. И о чем могла написать? Только о том, что жива? Но ведь жива-то жива, а в каком положении? Даже жизнь не мила с тех пор, как получила первое письмо от него, от Федора.
— Не получала я писем,— солгала она и почувствовала, что сказала не так. Надо было сказать правду, а правду сказать опять не смогла.
— Не получала? А я ведь писал. Правда, не сам писал, сосед-инвалид. Я диктовал ему...
— Думала, в живых тебя нет. Ведь Гешка-то видел тебя погибшим.
— Ну и что! Плохо, что воскрес? Ведь живой, Настя, видишь, живой! — Он задыхался от волнения. О чем-то догадывался, и она это понимала, чувствовала, что подозревает в измене. — Может, другой у тебя? Так и скажи! Я не боюсь правды. Лучше горькая правда, чем ложь.
— Виновата я перед тобой, Федор. — Она опустила голову, как бы прося у него пощады. — Виновата...— подтвердила еще раз и, закрыв лицо руками, заплакала.
«Призналась»,— подумал Федор. Он готов был уже простить ее, но что-то мешало сказать последнее решительное слово: то ли опять ревность зашевелилась, то ли обида, но волнение исчезло, он успокоился.
— Ладно, прощаю,— сказал он и сам не знал, за что он ее прощает.
Она встрепенулась, подняла голову, перестала плакать. Подалась к нему, уткнулась головой в колени мужа и снова заплакала.
— Хватит плакать, хватит,— приказал он и отстранил ее от себя. — Что было —
быльем поросло. Не будем вспоминать прошлое. Не будем...
Она глядела ему в глаза, и неизъяснимое чувство жалости охватило ее, охватило так сильно и так остро, что она не знала, куда себя деть. То ли жалела себя, то ли его жалела — в этом она сейчас не могла разобраться, но свою тайну все еще не могла перед ним открыть. Не могла...