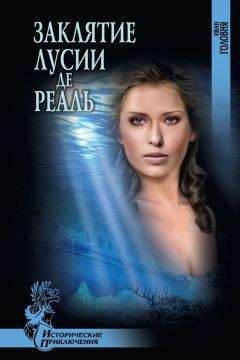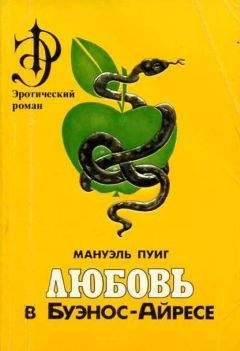Горько признавать, но перемены, превратившие мое заключение в нескончаемую пытку, начались четвертого ноября тысяча пятьсот семнадцатого года, в тот день, когда в Тордесильяс приехали мои дети Леонор и Карл. Я томилась в замке целых девять лет. Последние годы благодаря дону Эрнану оказались не такими беспросветными. Шестое ноября, день моего рождения, началось как обычно. Мне сообщили о визите Гильома де Кроя, сеньора Де Шрива, моего старого фламандского знакомца. Ничего не заподозрив, я приняла его без особых церемоний. Покончив с поклонами, фламандец рассказал мне о детях и спросил, хотела бы я их увидеть. Я ответила: конечно, да, можно было и не спрашивать.
Я даже вообразить не могла, что они совсем рядом. Дети тайком прибыли в замок еще два дня назад. Де Шрив с загадочным видом распахнул дверь. На пороге стояли юноша и девушка. Когда я видела Карлоса и Леонор в последний раз, ему сравнялось пять, а ей семь. С тех пор прошло двенадцать лет. Теперь им было семнадцать и девятнадцать. В их чертах, словно в зеркале, отразился Филипп и я сама в юности. Передо мной стояли дети нашей любви. Они поклонились. Я закрыла глаза. Окруженная призраками, я почти перестала отличать реальность от вымысла. «Вы и вправду мои дети?» — спросила я дрожащим голосом, тревожно вглядываясь в их лица. Мой сын унаследовал черты Филиппа, но не его красоту; он выглядел равнодушным и усталым. У Леонор были румяные щечки и золотистые волосы моей матери. Оба держались как бургундские принцы и почти не говорили по-кастильски. Я обратилась к детям по-французски. Они удивились. Каждое слово, сказанное мной, несказанно их изумляло, они словно не могли поверить, что сумасшедшая может задавать такие разумные вопросы. Леонор быстро освоилась и начала улыбаться, но Карлос вел себя так же недоверчиво, как в детстве, когда я вернулась из Испании, а они с отцом встречали меня в Бланкенбурге. Нам с сыном не представился случай узнать друг друга поближе. В каждом жесте Карла сквозили отчуждение и растерянность. Для него этот визит был пустой формальностью, и он не пытался этого скрыть. Не в силах справиться с болью от того, что дети потеряны для меня навсегда, я поспешила завершить аудиенцию и отправила их отдыхать.
Я осталась наедине с Де Шривом, главным советником Карла. Он тут же пустился в рассуждения о многочисленных талантах и добродетелях принца. «Пусть вам послужит утешением, — заключил Де Шрив, — что ваш сын станет великим монархом».
По мнению фламандца, я должна была немедленно отречься от короны, чтобы Карл стал править еще при моей жизни и мог найти во мне опору в первые годы своего царствования. Если на то будет моя воля, Кортесы утвердят его власть наравне с моей собственной. Я сказала, что не возражаю, что мой отец наверняка согласился бы с таким решением. Для себя я хотела лишь свободы и уважения, я надеялась, что Карл будет править от моего имени, и была бы счастлива править вместе с ним, согласно воле короля Фердинанда.
Кортесы согласились передать престол Карлу, выдвинув девяносто девять условий. Три из них касались моих прав и состояния. Последнее гласило, что, если Господь вернет мне здоровье, новый монарх обязуется уступить мне корону. Этот пункт превратил сына в моего врага.
Взойдя на престол, Карл вспомнил о своей сестре Каталине. Все вокруг знали, как сильно я ее люблю. Каталина была моей опорой, путеводной нитью в лабиринте отчаяния. Карл, воспитанный Маргаритой Австрийской, пришел в ужас при виде ее лохмотьев и жадного внимания, с которым она наблюдала за детьми во дворе. Вместе со своими советниками он разработал план похищения девочки, чтобы разлучить ее со мной. Поскольку попасть в комнату дочки, минуя мою спальню, было невозможно, заговорщики прорыли под стеной туннель, прикрыв вход в него ковром, и как-то ночью подкрались к Каталине, схватили ее и через подземный ход вывели из замка. Предсказать мою реакцию было несложно: я решила умереть. Погрузившись в черное безутешное отчаяние, я перестала есть и пить. Мои слуги и дон Эрнан поспешили уведомить об этом Карла. На этот раз мои молитвы были услышаны, и мятеж возымел действие. На третий день Каталину вернули в Тордесильяс. Моя девочка снова была со мной. Обнявшись, мы обе плакали от радости. Моя камеристка Хуана Куэвас рассказала, что все эти дни принцесса пребывала в таком же унынии, как и я сама, и требовала, чтобы ее немедленно отпустили к матери.
Каталина вернулась, но ее похищение было лишь первым звеном в целой цепи несчастий.
Через три месяца после своего визита Карлос отправил в отставку славного дона Эрнана, герцога Эстраду. На его место пятнадцатого марта тысяча пятьсот восемнадцатого года прибыли дон Бернардо Сандоваль-и-Рохас и его жена донья Франсиска Энрикес, маркизы Денья. Отъезд Эрнана означал для меня конец спокойной жизни. Прощаясь с Эстрадой, я горько сетовала, что остаюсь совсем одна. «Мы оба не властны в себе, донья Хуана», — ответил тот, кто пытался стать моим другом и помог мне даже в заточении остаться женщиной.
Денья окружили меня непроницаемой стеной молчания и забвения. Они верно служили тому, кто узурпировал мой престол. Я могла бы назвать путы, захлестнувшие мой голос, кругами ада. Этих кругов было три: в первом помещались две женщины, день и ночь сидевшие в моих покоях и ни на миг не позволявшие мне остаться наедине с собой. Второй круг включал двенадцать дам, которые шпионили за мной под предлогом заботы. И наконец, третий круг: двадцать четыре вооруженных стражника на замковых стенах. Меня не пускали даже в церковь. Маркиз Денья, седовласый старец с голубыми навыкате глазами, был образцом учтивости. В каждом его слове, в каждом поклоне скрывался отравленный кинжал, но Старик пребывал в убеждении, что я их не замечаю. Чтобы оправдать мое заключение, он по примеру Феррера ссылался на чуму и распоряжения моего отца.
«Неужели вы и вправду поверили, что ваш батюшка скончался? — воскликнул он, когда я осторожно поинтересовалась, жив ли Фердинанд. — Он занемог и удалился в монастырь, где проводит дни, направляя помыслы к Господу нашему. Вы непременно должны ему написать. Он будет рад получить весточку от любимой дочери Хуаны».
«Напишите сами, маркиз, — возразила я. — Ведь вы его кузен. И передайте от меня привет».
Деспоты вроде Денья всегда исправно ходят в церковь и демонстрируют деревянным статуям такую горячую привязанность, какую не питают ни к одному из живых людей. Церковные ритуалы всегда казались мне игрой на публику, имевшей мало общего с истинным возвышением духа. Поселившись во Фландрии, я почти перестала придавать им значение. Беспокоясь о моей бессмертной душе, маркизы велели служить мессы прямо в замке, чтобы заставить меня отдавать Богу Богово, не выходя на дневной свет. Я категорически отказалась и даже сумела настоять, чтобы меня снова стали пускать в церковь Святого Антолина, соединенную с моим жилищем крытой галереей. Для меня эта короткая прогулка была скорее возможностью полюбоваться окрестностями, чем воздать хвалу покинувшему меня Господу.