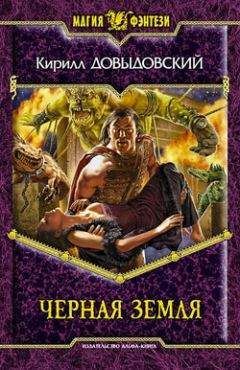Чувствую, как глаза снова наполняются слезами.
Я очень хорошо помню последние дни отца. Никто так и не смог понять, какая хворь его свалила. Еще вчера полный сил и энергии, сегодня он едва мог самостоятельно подняться с кровати. Его суставы распухли и налились горячей пульсирующей краснотой. Это было жутко — видеть, как неотвратимо сгорает человек, которого ты всегда почитала за самого справедливого и доброго. Отец в жизни никогда не поднял на меня руку, не прикрикнул. Я любила его. Очень любила. И умирала тогда, кажется, вместе с ним.
Турин шагает ко мне, распутывает в руках кожаную тесемку простого амулета. А я ведь помню его: это окантованный в серебро клык пещерного волка — самого опасного хищника наших лесов. Даже медведь, проснувшийся посреди зимы, старается не пересекаться с серым хищником. А отец справился с таким один на один. Да, после схватки он едва выжил, потерял столько крови, что его вены превратились в иссохшие русла ручьев, а один глаз так никогда больше и не видел. Но он выжил.
— Будь достойным рода Хольмбергов, юный Хельми, — говорит Турин и аккуратно одевает амулет сыну на шею. — Когда-нибудь мама расскажет тебе о твоем великом деде.
— Уже рассказывала, — улыбаюсь, чувствуя влажные струйки на щеках. — О всех наших предках, кого знаю. И о тебе тоже.
— Ну нет, — смеется брат. — Я слишком бездарен, чтобы обо мне упоминать. Не вздумай больше забивать голову ребенка всякой ерундой.
— Прости, братец, но не всякое твое слово я готова слушать и слышать.
Он еще несколько мгновений ухмыляется, а затем резко становится серьезным.
— Будь осторожна, — говорит шепотом. — Война еще не закончилась. И это затишье — только небольшая передышка перед настоящей бурей. Север снова будет свободным. Я тебе это обещаю.
— Нет-нет, — шепчу в ответ, — Турин, ты же не собираешься…
Но он уже снова возвращает себе ухмылку, отступает на шаг, чуть склоняет голову в поклоне, разворачивается и идет к выходу.
И мне хочется бежать за ним, хочется спросить, что он задумал, но устраивать расспросы здесь, где даже у стен могут быть уши — верх глупости.
— До встречи на ярмарке, сестренка, — оборачивается он у двери.
— До встречи на ярмарке, братец, — говорю в ответ.
Хельми на моих руках возится, подтягивает к глазам серебряный клык и с интересом его рассматривает.
Обнимаю сына, всем телом впитывая его тепло. Мы так мало видимся. Я так непозволительно мало с ним занимаюсь. Даже когда в лежку лежала после родов, даже тогда находила в себе силы возиться с ним, пела песни, рассказывала о том, как ждала его. И вот теперь, когда снова почти без боли могу ходить, времени на собственного сына остается только утром и вечером. Днем одни дела сменяются другими — и так без конца, вечное колесо, в котором приходится быстрее и быстрее переставлять ноги только лишь для того, чтобы не грохнуться лицом вниз.
Вслед за Турином уходит и служанка. Знаю, она проводит его.
И, с одной стороны, мне действительно очень радостно видеть брата в добром здравии. Да, на нем явно лежит печаль великой усталости и многих забот, но он все равно нашел время и силы, чтобы приехать на ежегодную Белую ярмарку — последнюю большую ярмарку перед предстоящей зимой.
Война войной, заботы заботами, но людям нужен отдых, нужно отвлечься от беспрерывной крови и тягот, хотя бы ненадолго вновь поднять голову и ощутить вкус жизни. И ярмарка — лучшее для этого места.
Турин наверняка знал, что увидит здесь халларнов. Не мог не знать. О своем новом замужестве я сообщила ему сразу же, как только минуло время, которое северные женщины ждут ушедших в поход мужей. Я ждала до последнего, хотя еще с первого дня знала, что Кел’исс мертв. Знала разумом, не душой.
Но при всей своей радости увидеться, я ощущаю какое-то смутное внутреннее беспокойство. В самом деле, не может же брат выступить против захватчиков в открытую. У него просто нет для этого сил. На всем Севере нет.
А к чему приведет новый виток противостояния, к которому мы просто не готовы, — догадаться несложно.
Нам нужно поговорить еще. Но уже завтра.
А пока приподнимаю на руках сына — и тот улыбается, агукает и довольно машет ручками и ножками, точно вот-вот взлетит. С недавних пор это наша любимая забава — изображать из себя летящую под небесами птицу. Мне еще немного трудно удерживать его на вытянутых руках, но что такое легкая боль в сравнении со счастливыми глазами собственного ребенка?
— Я птица от Бога, я птица от века, — произношу нараспев, приподнимая Хельми над своей головой и делая несколько шагов по кругу. — Я птица, что ведает дни наперёд. Мне видимы мысли в душе человека. Тебя я зову в поднебесье, в полет.
Сын смеется — и этот смех как рукой снимает с моего сердца все тревоги. Кажется, даже усталости в мышцах становится меньше.
Он так похож на Кела, с каждым днем все больше, в едва уловимых деталях, в привычке хмуриться, когда о чем-то задумывается, даже в немного на сторону улыбке. Мне кажется, что с годами он станет точной копией заклинателя Костей. Хочется ли мне этого? Безумно! Как бы неподобающе подобное ни звучало по отношению к моему новому мужу.
Да, я верна ему телом, хотя вследствие тяжелых родов и последующего выздоровления до сих пор не порадовала его плотскими утехами. Но верна ли я ему духом? Не знаю. Возможно, мне просто необходимо больше времени, чтобы окончательно отпустить от себя Кел’исса.
Северные земли славятся своим суровым характером — и мужчины, уходящие на охоту, зачастую не возвращаются обратно. И это в мирное время, что уж говорить о временах междоусобиц или, как теперь, войне. Одной же вести хозяйство и растить детей почти невозможно. Потому овдовевшие северянки почти всегда стремятся снова выйти замуж. Я не стремилась… не стремилась сделать это для себя. Впрочем, замужество с захватчиком — не такая уж и высокая цена за относительное спокойствие собственного народа.
Ужин мне приносят прямо в комнату. Я всегда ужинаю здесь, когда мужа нет дома. За день так устаю, что сил идти в трапезный зал не остается никаких. Да и лишнее мгновение побыть с Хельми — большого стоит. Своего молока у меня нет, потому у сына есть кормилица, но мы постепенно переходим на козье молоко.
После ужина принимаем ароматную ванну и отправляемся в кровать. Перед сном я еще рассказываю Хельми о наших с ним предках, вышедших когда-то к берегам затянутой льдами большой воды. Но кто из нас засыпает первым — не знаю. Просто в какой-то момент просто проваливаюсь в мягкие объятия сна, чтобы рано утром быть разбуженной громким топотом и практически сорванной с петель дверью.
Резко подскакиваю на кровати, первым делом удостоверившись, что с Хельми все в порядке, перевожу взгляд на взволнованную Мору.
— Там, — едва может произнести она и указывает пальцем куда-то за спину. — Там…
Первая мысль: «Неужели Турин?»
Нет, не мог он настолько осмелеть, чтобы возобновить войну именно сегодня, накануне большой ярмарки. К тому же на моей земле. На ярмарку же собралось множество народу — и далеко не все из них умелые воины.
Нет, дело в чем-то другом.
— Он вернулся, госпожа, — бледная, с трясущимися губами, наконец, выговаривает Мора. — Чернокнижник вернулся!
Глава девятая: Хёдд
Кажется, я забываю, как дышать, а сердце в груди останавливается, чтобы в следующее мгновение припустить таким галопом, что аж больно за хрупкими ребрами.
Мне не послушалось? Она точно сказала про чернокнижника? Ведь именно так все называли заклинателя Костей.
— Он прилетел на железном драконе, — начинает тараторить Мора. — Упал с небес камнем. Весь в черном, бледный, глаза горят. Думаю, сейчас идет сюда.
Последние слова слышу уже, когда выбегаю прочь из комнаты. Не знаю, зачем, но подхватываю Хельми на руки и несусь уже с ним. Он думает, что я с ним играю, но быстро успокаивается и смотрит на меня с откровенной тревогой. Наверное, мое безумие настолько очевидно, что пугает даже его.