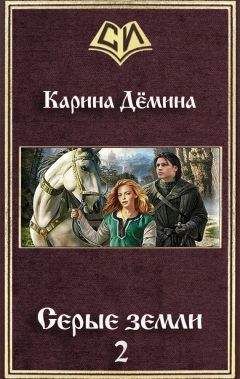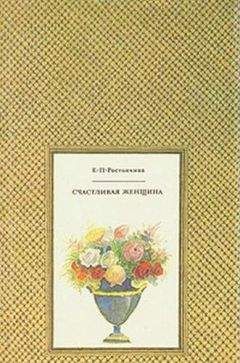— К — какое?
Сигизмундус с трудом, но удержал равновесие, а ветви его рук, как и описывалось в брошюре, сделались легкими, почти невесомыми… правда, остальное тело еще требовало приведения его в состояние высшей гармонии, после достижения которого медикус обещал чудесное исцеление ото всех болезней, а также открытие третьего глаза и высшей истины.
До гармонии, скажем так, было далеко.
— Двадцать пять злотней, — сказала панна Зузинская, отступив еще на шаг, поскольку гармонии Сигизмундус добивался очень уж активно.
Он раскачивался, то приседая, то вдруг вскакивая со сдавленным звуком, будто бы из него весь воздух разом вышибали. Панне Зузинской были неведомы азы дыхательной гимнастики, а оттого все, происходившее на перроне, было для нее странно, если не сказать, безумно.
— Я дам вам двадцать пять злотней за вашу кузину, — она выставила меж собой и Сигизмундусом сумочку. — Подумайте сами… вы, я вижу, человек свободный… не привыкший к обязательствам подобного толку… вы живете мечтой…
Пан Сигизмундус присел и резко развел руки в стороны.
Сия поза называлась менее романтично: «жаба выбирается из‑под илистой колоды». От усилий, страсти, с которой он выполнял упражнения, очки съехали на кончик носа, а шарф и вовсе размотался.
— Вы собираетесь в экспедицию, но с нею… с нею вы далеко не уйдете.
— Зачем вам моя кузина?
Панна Зузинская огляделась и, убедившись, что на перроне пусто. Призналась:
— Замуж выдать.
— За кого?
— За кого‑нибудь… у меня много клиентов, готовых заплатить за хорошую жену. Поверьте, я сумею ее пристроить…
Сигизмундус нахмурился. Был он, конечно, наивен и доверчив чрезмерно, однако не настолько, чтобы сразу отдать дорогую кузину, которую втайне полагал обузою, первой встречной свахе.
— Нет — нет, — Агафья Прокофьевна, догадавшись о сомнениях, поспешно замахала руками, — не подумайте дурного! Я лишь желаю помочь… и вам, и себе… на границе множество холостых мужчин, а вот женщин, напротив, мало… а ваша кузина хороша собой, образована… редкий случай. Потому и даю вам за нее двадцать пять злотней.
— И что мне нужно будет сделать?
Для пана Сигизмундуса, вечно пребывавшего в затруднительных обстоятельствах, сумма сия была немалой, если не сказать — вовсе огромной.
— Ничего, совершенно ничего! — панна Зузинская, уверившись, что клиент не собирается более ни скакать, ни размахивать своими ручищами, осмелилась подступиться ближе. — Как приедем, я вашу кузину к себе возьму… обставим все так, будто бы она сама сбегла… с девками такое случается. А раз так, то какой с вас спрос? Вы, главное, искать‑то ее не дюже усердствуйте… а лучше и вовсе… я вам записочку дам, к человеку, который на Серые земли ходит. Он‑то вас с собою возьмет, ищите свою вяжлю…
— Выжлю, — поправил Сигизмундус, которому страсть до чего хотелось и деньги получить, и от кузины избавиться.
— Вот — вот, ее самую…
— Я… — он поправил шарф. — Я подумаю над вашим предложением.
— Думайте, — согласилась панна Зузинская. — Но учтите, что свободных девок в том же Познаньске множество…
— Так то в Познаньске, — Себастьян не удержался.
Жалел он лишь об одном, что ныне не имеет доступа к полицейским архивам, а потому не способен точно сказать, не случалось ли в последние годы эпидемии беглых девиц…
Таких, которых не стали искать.
Глава 4. О волкодлаках, утренних променадах и случайных встречах
Гавриил проснулся засветло.
В холодном поту.
Задыхаясь.
Он скатился с кровати и привычно под кровать же спрятался, там и лежал, прижимаясь к холодным доскам, пока не унялось беспокойное сердце. А оно не унималось долго. Вздрагивало хвостом заячьим от каждого звука, от теней шевеленья.
Мнилось — вновь идут по следу.
И видел почти, что искаженные, поплывшие лица, которые уже и не лица, но морды звериные… и вздыбленную шерсть, и уши куцые, к головам прижатые. Слышал глухое рычание.
Повизгивание.
Это всего — навсего шпицы панны Гуровой… она за стенкою обретается, до полуночи ходила, что‑то бормоча под нос. А что именно — Гавриил так и не понял, хотя слушал через вазу. Но все ж стены в доме были не такими тонкими, как ему хотелось.
И псиною пахнет оттуда же… да и вовсе, чего бояться?
Нечего.
Гавриил это знал, но ничего не умел с собою поделать. И лежал… глядел на порог, ожидая, когда заскрипят половицы под тяжелой ногою, а вот дверь наверняка отворится беззвучно. Они всегда умели договариваться с дверями.
Шаги он услышал издалека.
Тяжкие.
Осторожные, будто бы тот, кто шел по коридору, не до конца решил, красться ему аль все ж ступать свободно, как человеку, которому нет надобности таиться.
Гавриил прижался к полу и нащупал нож. Прикосновение к теплой рукояти, которую он самолично выточил из оленьего рога, принесло некоторое облегчение.
И способность дышать вернулась.
Шаги замерли.
Рядом?
Близко, совсем близко… но не у Гаврииловой двери… выбирает? Но на улице светло… или тварь настолько стара, что способна менять обличье по собственному почину?
Сердце екнуло — справится ли?
Справится.
Как иначе…
Вновь застонали половицы… и ручка двери качнулась. Вниз. И вверх… раздался осторожный стук… вежливая какая тварь…
Гавриил подвинул нож к себе.
И дверь отворилась. Конечно, беззвучно.
Сначала он увидел тень, огромную, черную тень, что перевалила через высокий порожек, разлилась, расползлась, сделавшись подобной на кляксу… тень добралась до самой кровати, и лишь тогда Гавриил увидел того, кто сию тень с собою привел.
Тапочки.
Матерчатые тапочки в клетку, изрядно растоптанные, заношенные, не единожды чиненные. Некогда они, несомненно, были хороши, ныне же выглядели жалко. Над тапочками виднелись ноги в старых штанах из парусины… чуть выше — пуховой платок, обвязанный вокруг спины.
Пан Вильчевский спиною маялся уж не первый год, с тое самое зимы, когда самолично волок на второй этаж купленную комоду. А что, грузчики‑то запросили целых десять медней… невиданная наглость. Тогда‑то комода, почти новенькая, почти целая — треснувшая ножка да потемневший лак не в счет — казалась ему легкою…
Спина не согласилась.
Прихватило так, что медикуса звать пришлось. И платить… и потом еще в лавке аптекарской за снадобья… дикие у них цены. С тое поры пан Вильчевский мебель самолично не двигал, а спину пользовал барсучьим аль медвежьим жиром, с бобровой струею мешанным. Снадобье выходило на редкость вонючим, но зато спину грело. А ежели поверху платок повязать из собачьей шерсти, то и вовсе ладно выходило.