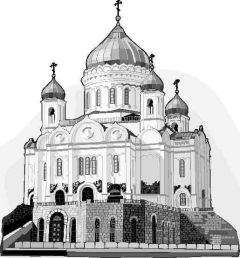— Стась, что случилось?
— Ну, что… кровь из носа, потом потеря сознания.
Про транспортировку моего тела я решаю не упоминать.
— А что за рыжий хохолок такой?
— Лёлик приходил.
— Лёлик?! Сюда?! В библиотеку?! — вопит она громким шепотом.
— Ну.
— Погоди-погоди… ты же не хочешь сказать, что…
— Я хочу сказать, что таким как я, вредно не ночевать дома, Лиса. Потому что потом с такими людьми на фоне общего недосыпа случаются Лёлики.
— Да ты что!.. — округляет она глаза, когда до нее доходит смысл моей фразы. — Как тебя вообще угораздило?… Стась, тебе сколько лет?… Где вы ночевали-то хоть?..
— Понятия не имею. Где-то на Петроградке.
— Пить меньше надо, вот что я тебе скажу!
— Угу. Надо.
— А что Фейга? — спрашивает она тихо.
Я видимо слишком долго молчу. Поэтому она снова спрашивает:
— Эй, у тебя все нормально?
— Нет, Лиса. Все плохо.
Весь день не думал об этом. И вот стоило мысленно вернуться к вчерашнему разговору, как у меня снова комок в горле.
— Ну, все. Прекратили, успокоились. Потом расскажешь.
Я мотаю головой. Потому что ни завтра, ни послезавтра не хочу об этом говорить. Ни с кем, даже с Лисой.
— Хорошо, не расскажешь. Сейчас ты куда поедешь?
— К ней же и поеду. Точнее, к ним.
— Может, лучше где-нибудь в другом месте переночуешь? Я бы тебя к нам позвала, но у нас просто положить тебя негде.
— Нет, Лиса, спасибо. Мне, правда, домой надо. Помыться, переодеться. Хватит с меня вчерашней ночевки.
— Ну, ладно. Как знаешь. Пойду принесу тебе твои вещи.
Потом она наклоняется ко мне и совсем тихо спрашивает, показывая глазами на Штерна:
— А этот-то тут каким боком?
Я пожимаю плечами, если это, конечно, возможно сделать, лежа на кушетке.
— Повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Приволок меня на себе в медпункт в сопровождении милиции.
— Да ты что! — Лиса смотрит на меня с нескрываемой насмешкой.
— Нашим только не говори, ладно?
— Не, ну ты подумай! — улыбка ее становится уже откровенно вампирской.
Ладно хоть не спрашивает, с чего это у Штерна к ней такое доверие и с какой стати он решил сообщить ей о Лёлике. Ради одного этого стоило запалиться.
— Чего-то тебя, Стась, совсем куда-то несет!
Довольная… Аж самому на нее смотреть забавно. Тетки, что с них взять! Любят все исключительно в одну плоскость переводить.
* * *
Лиса приносит мне мой рюкзак, я иду в служебный гардероб, расписываюсь на вахте, и уже выйдя на улицу, сталкиваюсь со Штерном. Он за это время успел вернуться через все переходы в журнальный зал, сдать книги, забрать в гардеробе сумку, одеться (в его случае — застегнуть пальто, повязать синий шарф и надеть перчатки), выйти через читательский вход и обойти здание снаружи. Вероятно, из-за разницы в наших скоростях моя способность свободно передвигаться все еще не кажется ему убедительной.
— Так куда мы едем?
Ресницы у него такие длинные и пушистые, что осевшие на них снежинки долго не тают, и вообще, отмечаю я про себя, снегопад ему очень к лицу. Я называю ему станцию метро. Он кивает и начинает ловить машину. Я пытаюсь протестовать, на что получаю от него довольно суровым тоном:
— Я так понимаю, вам понравилось, когда вас на себе таскают? Уверяю вас, в метро это будет не столь увлекательно. Завтра будете со старшими спорить, а на сегодня с меня впечатлений хватит.
Я смиряюсь, и с интересом наблюдаю, как Штерн выбирает машину. Один раз он даже не называет адреса, а сразу говорит: «Нет». В какой-то момент до меня доходит, что интересует его не стоимость поездки, а музыка, которая играет внутри. Наконец, уловив после нескольких «шансонистов» джазовую волну, он удовлетворенно кивает. Я покорно сажусь на заднее сиденье — кто ловил машину, тому и привилегия ехать рядом с водителем, — но Штерн втискивается рядом и с изможденным видом откидывается на спинку сиденья, во все стороны расползаясь коленями, локтями и полами пальто. Так он и сидит все время пути, запрокинув назад голову, впервые предоставив мне возможность наблюдать его изящный кадык в выгодном ракурсе.
Ехать нам долго, стоять на светофорах и в пробках — еще дольше. Чтобы не молчать всю дорогу, я решаю поинтересоваться. Говорить, правда, приходится почти шепотом, чтобы не слышал водитель, ну да у нас все общение так проходит, можно сказать, уже научились друг у друга по губам читать.
— А что, правда, было увлекательно?
Он медленно поворачивает ко мне голову и долго смотрит на меня, не столько с интересом, сколько с сомнением.
— Не, правда! — пытаюсь оправдаться я. — В конце концов, не каждый же день приходится таскать на себе бесчувственных библиографов.
— Нет, вы все-таки очень странный человек, — наконец, говорит он. — Не удивлюсь, если вы и про потерю сознания скажите — «любопытное ощущение».
— Ну, а почему бы и нет? Это сейчас я еще помню, что перед тем, как меня вырубило, мне было дико плохо. А через какое-то время мы наверняка уже будем об этой истории со смехом вспоминать.
Он мотает головой.
— Я — не буду.
Он поворачивает ко мне голову и шепчет почти на ухо, что, впрочем, не снижает суровости его тона:
— Не знаю, как вы, а я так до сих пор в себя не могу прийти от мысли, что не вскочи я вовремя, еще бы секунда, и вы бы головой грохнулись о каменный пол. Зайдите как-нибудь туда на досуге, присядьте на подоконник и внимательно посмотрите, на какой высоте от пола находилась ваша голова в момент падения. Про предшествовавшую сцену я уж просто молчу. Настолько это было страшно.
— Ладно, простите. Не буду больше в вашем присутствии падать в обморок. Но все же ведь хорошо закончилось!
— А могло не закончится! — яростно шепчет он. — Так что почаще вспоминайте, как вам было плохо перед падением. Может быть, тогда хоть научитесь не доводить себя до такого состояния.
— Да ладно вам, уж и спросить ничего нельзя! Мне же интересно знать, как это все выглядело со стороны. Когда кто-то падает в обморок в фильмах или книжках, все обычно очень красиво смотрится.
— Да, красиво, — соглашается он. — А еще красиво смотрится избиение или убийство человека, дуэль, скажем… убийство животных, «охота» называется… взаимоотношения полов очень красиво всегда почему-то показывают. А еще ревность, отчаяние, бессилие, одиночество и непонимание. Для человеческой культуры вообще свойственно поэтизировать разного рода страдание и насилие. Этакий антропологический «стокгольмский синдром». Раз уж не получается ничего сделать с темными сторонами человеческой природы, то давайте их будем превозносить. Назовем это все «жизнелюбием», возведем в ранг добродетели и будем сверху вниз смотреть на тех, кто не желает в этом участвовать.