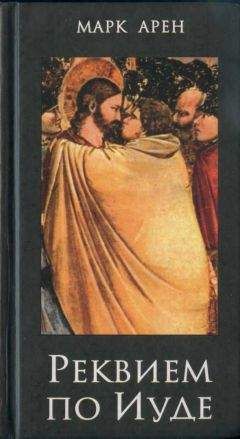задержанном. Но такую, чтобы я поверил. Ты ж, небось, с ним всю ночь протрепался. С тобой, значит, он говорить смилостивился, а вот с властью вроде как и не клеится разговор. Ну, может, ты мне, – он специально сделал ударение на последнем слове, – расскажешь, чего он шлялся по столице без документов и с пушкою ворованной в руке, а?
– Правду говорить? – взглянув на Арефьева, спросил Андрей Петрович.
– Ну а как же, – кивнул тот.
– Если правду, то много сказать не смогу. Правда вообще бывает очень короткой. Это ложь любит многословные кружева. Поэтому скажу одно – он неопасный, – глядя Арефьеву в глаза, сказал Андрей Петрович.
– А пушка? Где ее он взял? – постукивая по столу карандашиком, спросил Виктор Григорьевич.
– Там, где берутся все пушки, – нашел. Только думаю, что она чистая. Нигде не числится, значится, никто из нее не стрелял. Да и жалко из такой стрелять – ручная работа. Знающие люди немалые деньги дадут, – будто размышляя, сказал Андрей Петрович.
– Так-таки и никто? – недоверчиво переспросил его Арефьев.
– Никто, – покачал головой Андрей Петрович.
– И все-то ты знаешь, – с ехидцей протянул Виктор Григорьевич, хотя по голосу было слышно, что он задумался, и крепко, – ну, допустим. Ствол – ладно, его отложим. А сам-то он кто, этот твой, – он вспомнил мудреное слово, – протеже?
– Известно кто, Пушкин, – просто ответил Андрей Петрович.
Арефьев откинулся на спинку стула и скептически хмыкнул:
– Это ты пошутил, ага. Тогда ты Моцарт, а я – Лев Толстой.
– Согласен, звучит непривычно, – сказал Андрей Петрович и взглянул собеседнику в глаза. – Но вы представьте на секунду, что это – правда. Что «наше все», случайно оказавшись в столице, просидело всю ночь у вас в КПЗ.
– Да ну тебя к лешему, ты что, совсем… – отмахнулся было от него Арефьев.
– Шума будет, не приведи Господь! Ну, а как, ведь Пушкина засадили! А кто засадил? Арефьев. Конечно, не сам лично, он-то Пушкина знает, но его оболдуи. Значит, плохо работает с личным составом, на Пушкина ведь ориентировка в любом учебнике литературы есть. Смотрит боком, руки на груди скрестив. Так что хлопот не оберетесь, – продолжал нагнетать Андрей Петрович.
– Не каркай, раскаркался тут, – вдруг осерчав, проговорил Валентин Григорьевич и потянулся за сигаретами (он уже полгода, как почти бросил, но в столе на всякий случай держал пачку), – да какой там, к чертям, Пушкин, он и не похож совсем…
– Да, что не похож, то не похож… – согласился Андрей Петрович, чиркнув своей зажигалкой, – а с другой стороны, вспомните, когда вы его в последний раз видели, я имею в виду – живого?
– Кого? – не понял поначалу Арефьев.
– Так Пушкина, – ответил Андрей Петрович.
– Ага, это ты опять пошутил, мне нужно, наверное, тут рассмеяться, ха-ха, – сказал Валентин Григорьевич, – так ты же сам говорил про ориентировки в учебниках, там портреты со скрещенными руками на груди и все такое…
– Так портреты-то не фотографии, это портреты и настоящие художники, а Пушкина-то рисовали именно они, передают не только и даже не столько внешний образ, сколько внутреннее содержание человека. Состояние его души. А какое, к черту, состояние души после ночи в «обезьяннике», хорошо, хоть в вашем, а в другом не то что на себя, на человека люди не бывают похожи после такой ночи! У вас же тот же Ступицын, интеллигентный человек, с ним у вас чувствуешь себя в Ницце, – полил бальзам на душу Арефьева Андрей Петрович.
– Где? – переспросил тот.
– В Ницце, это такой курорт, – пояснил Андрей Петрович и, перехватив вопросительный взгляд Арефьева, поспешил добавить: – Во Франции, хороший…
Арефьев задумался. Его сознание, судя по частым и глубоким затяжкам, металось между абсурдностью того, что он услышал, и крохотным, но могущественным «а если». И ведь, главное, как сходится с тем, о чем он сам только вот думал… Нет, никто в здравом уме… А если?!. Раз в год ведь и палка стреляет. Бред… Самый настоящий бред, но стоит только на мгновение себе представить… Бред, ставший реальностью, – это кошмар.
Андрей Петрович опустил глаза не столько из вежливости, сколько не желая отвлекать. Пусть покипит разум, коль встретились в нем Человек и Руководитель. И то, во что Человек, сиречь обыватель не поверит, Руководитель, лицо ответственное, обязанное думать наперед обо всем, непременно примет к сведению. Ведь неизвестно, как бы он сам отреагировал, будь на месте Арефьева…
Закашлявшись – тлел уже фильтр, Арефьев тщательно растер окурок в девственно чистой пепельнице. Решив про себя, что пора, Андрей Петрович спокойно, словно продолжая свою мысль, произнес:
– Парень крышей поехал. Явились его предки когда-то к нам по обмену, дружбе народов учиться, да он так увяз в нашей родной литературе, что возомнил себя Бог весть кем. Пошил себе одежу по старым лекалам и… Помешанный, но не буйный, я же знаю, что говорю.
– Тогда его в больницу надо, на опыты, – пробурчал Валентин Григорьевич. В горле все еще першило, голова стала тяжелой… и как он двадцать лет дымил как паровоз?!
– Так-то оно так, – мягко произнес Андрей Петрович, – да только такие случаи определить крайне тяжело. Если погружение в чью-то личность поверхностное, допустим, кто считает, что он, к примеру, Наполеон, его на чистую воду вывести несложно. Спроси у него что-нибудь по-французски, и всего делов…
– Ну? – неуверенно спросил Арефьев, не совсем понимая, к чему клонит его собеседник.
– А здесь погружение полное – он не просто считает себя Пушкиным, он говорит и думает как Пушкин. Владеет французским, манеры, стихи наверняка пишет. Он словно оттуда. И совершенно ничего не смыслит в окружающем. Одно сознание полностью вытеснило другое.
– А… ага, понимаю, – медленно проговорил Виктор Григорьевич, нахмурив брови, – понимаю… Так, а если экспертизу провести… или как там это в медицине называется? – уцепился он за свою мысль.
Андрей Петрович вздохнул:
– Можно. Только тут такая кутерьма начнется… И потом – газеты… оно вам надо?
Арефьев только крякнул, чувствуя, как лоб покрывается бисеринками пота. Только этого ему недоставало. Он ведь сразу, как только пушку эту увидел, понял – жди неприятностей…
– Тут вот еще что… – Андрей Петрович специально выдержал паузу. – Случаи такие, конечно, редкие. Можно сказать, уникальные. Но что их всех объединяет, так это крайне нестабильное состояние психики.
– Ты ж говорил, он вроде не буйный, – удивленно посмотрел на него Виктор Григорьевич.
– Я и сейчас говорю, что не буйный. Пока. Но через какое-то время – когда неделя, когда месяц, обязательно победит человеческая природа. Его сознание, то, что было с ним от рождения, побеждает и находит его. И тогда