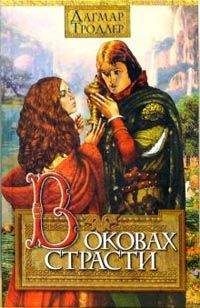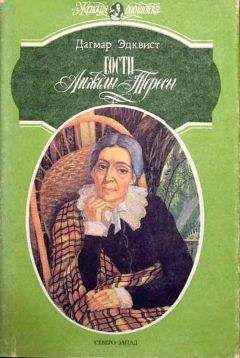Ее нежный голос и благоухание роз преследовали меня даже тогда, когда она уже исчезла с моих глаз, окруженная служанками. Я взъерошила волосы, обхватив голову руками. Не отказывайтесь ни от чего, что вам предлагают. Я уже была рада, что вскоре смогу покинуть отчий дом. Чем больше она перекраивала на свой лад жизнь, к которой я привыкла, тем больше я приходила в смятение и отчаяние.
На грани изнеможения, постоянного недосыпания, словно призрак, не зная, чем заняться, после передачи ключей новой хозяйке бесцельно слонялась я по замку с кожаным ремнем в руке, завязывая на нем узлы, чтобы ни о чем не думать и ни о чем не вспоминать…
Я слышала, как за моей спиной шептались, будто я лишилась рассудка с того самого дня, как повстречалась в водах озера с сатаной, уже все об этом слышали… Если я оборачивалась, люди пугались и разбегались в разные стороны.
Когда мои руки начали гноиться, Майя обратилась за помощью к еврею.
— Я уж думаю, не задумали ли вы что-нибудь сделать с собой, — ворчала она, беря меня за правую руку, которой я, потеряв всякие мысли, теребила волосы. — Вы что, хотите, чтобы вся прислуга поверила в то, что вы ненормальная? Глупость это, Элеонора. Еще ни разу в жизни я не видела молодой женщины, которая заранее так ненавидит своего жениха! Опомнитесь!
***Даже Всемогущий потерял дня меня свою близость, которую я так сильно чувствовала, она перевоплотилась в расплывчатый туман.
— Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которые Ты повелел мне уповать, — обратился ко мне патер Арнольд, едва я вошла в часовню.
Священник взял в руки Псалтирь и с сомнамбулической уверенностью стал искать подходящий псалом.
— Вспомни слово Твое, — бормотала я, начиная опять перебирать волосы, — к рабу твоему…
Мне было абсолютно безразлично, как долго пролежала я на полу часовни. Господь больше не слышал меня. По привычке, а также потому, что я любила ледяной холод гранитных плит, я продолжала лежать перед статуей Мадонны.
— …Это утешение в бедствии моем.
— Да смилостивится над вами Господь, фройляйн, — рассеянно пробормотал патер Арнольд. — Quia eloquinum tuum vivicafit me.[70]
***Майя перевязала мне и левую руку. Бездумно я начала расцарапывать покрывшиеся коркой раны, причиняя себе боль, поднимающуюся от ладоней вверх по руке. В дверь постучали. Гизелла вскочила и открыла еврею. На мою руку упала тень, передо мной стоял Нафтали. Я не могла уже и вспомнить, когда в последний раз виделась с ним. Лекарь попросил разрешения остаться со мной наедине, но Майя и Гизелла сделали вид, что не расслышала просьбы. Нафтали присел на подоконник напротив и долго смотрел на меня.
— Думаешь, что сможешь предотвратить то, что уже решено? — Тихо спросил он наконец.
Я уставилась в одну точку, в горле стоял ком. Картинки воспоминаний одна за другой сменялись в моей памяти, сжимались, образуя одно лицо, растекающееся, даже не приняв четких очертаний.
Нафтали раскрыл свой саквояж и вынул оттуда стеклянную амфору.
— Я хочу, чтобы ты принимала содержимое каждый день по одной ложке. Это укрепит тебя. — Он приподнял мой подбородок. — Еще хочу, чтобы ты начала есть.
Больше он не сказал ничего, а занялся моими руками, вымыл их в воде с приятным запахом, намазал жгучей мазью, перебинтовал раны. Гизелла обнюхала амфору, Майя что-то делала над емкостью с водой, обе с любопытством прислушивались к происходящему, но еврей за все время не проронил больше ни слова.
Наконец он встал, повесил саквояж на плечо и произнес:
— Каждый должен преодолеть путь с высоко поднятой головой. Может, то, чем испытывает нас Господь, не так уж и плохо.
Почти каждый день он стал приходить, чтобы осматривать мои руки. Его средство было отвратительным на вкус, зато уже через несколько дней у меня появился аппетит. Однажды он принес целый чайник мятного напитка, хлеб с тмином, испеченный Тассиа, и принудил меня чуть откусить от него. Ничего не понимая, смотрел он, как я, разразившись слезами, через некоторое время съела весь хлеб.
На следующий день он принес какой-то мешочек, который и передал мне, когда Майя вышла ненадолго за дверь.
— Что это? — поинтересовалась я и попыталась развязать узел на плетеном шнуре с бахромой. Он быстро накрыл мои пальцы своей ладонью.
— Оставь это, — произнес он. — Ты только напугаешь всех.
Я принялась дальше возиться со шнуром, развязала узел и вытянула из мешочка нечто, напоминающее корень.
— Что это? — вновь спросила я, рассматривая клубень с корнями.
— Это корень мандрагоры, приносящий, по народному поверью, богатство и счастье.
Я вскрикнула и выронила его из рук.
Он нагнулся, чтобы подобрать корень. В полутьме казалось, что волшебные корни шевелятся, как руки, хватают лекаря за пальцы, жадно и сладострастно.
— Некоторые люди говорят, что корень мандрагоры помогает в печали.
Нафтали снова спрятал корень в мешок. Потом взглянул на меня.
— Может статься, поможет и тебе.
Шаркая ногами, вошла Майя, и Нафтали незаметно запихнул мешочек мне под подушку.
Той же ночью я сожгла корень мандрагоры на крыше женской башни, лишь только луна скрылась за облаком. Не отрываясь, смотрела я на пламя, изображая в воздухе знак креста, чтобы отвести от себя злые силы, совсем не отдавая себе отчета в том, что делаю. Ведь еврей хотел всего лишь помочь мне. И чего, собственно говоря, я боялась: волшебного корня или его воздействия? Держа палец прямо в огне, я думала, как хорошо было бы вообще ничего не чувствовать…
Нафтали никогда больше не вспоминал о корне. А когда даже самые страшные раны на моих руках зажили, он не переставал навещать нас, принося с собой для Эмилии цветные камешки, а для меня хлеб от Тассиа. В присутствии лекаря я немного успокаивалась и даже откладывала в сторону кожаный ремень. Моя душа, дико хлопающая крыльями, как хищная птица, на время затихала. Старый еврей, как и прежде, начинал рассказывать библейские истории о Руфи и Ноемини, или о Юдифи, которая обезглавила Олоферна. Он держал мою руку в своей, чтобы я сидела спокойно и дослушала все до конца.
— А ты помнишь, — спросил он однажды вечером, когда сделал мне перевязку, — помнишь о видении, которое как-то у меня было?
Я взглянула на него. Лицо его показалось мне серым и осунувшимся. Часть меня хотела повернуться и убежать, не думать, не вспоминать, не разговаривать…
— Перед осадой. Ты спрашивала тогда, должны ли мы все умереть.
— У тебя было видение, еврей? — вмешалась в разговор Майя. — Лучше бы об этом не знать ее благочестивому отцу…