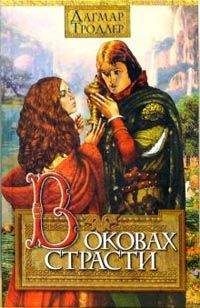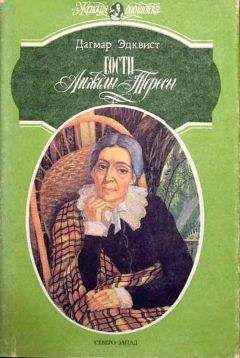— Convertere. Domine, et eripe animam meam! Salvum me fac propter misericordiam tuam. Quoniam non est in morte memor sit tui, in inferno autem quis confitebitur tibi? Domine usquequo![87]
Мы стояли возле глубокой черной ямы, в которую должны были опустить тело. Эмилия, земля холодная и такая темная. Ты будешь там, внизу, совсем одна, моя маленькая сестренка. Я смотрела на носилки и не могла поверить, что она, обернутая в белые покрывала, лежащая на досках, сейчас навсегда исчезнет в этой яме. Немыслимо, невероятно. И лучше было бы для тебя лежать в саркофаге из стекла, Эмилия, чтобы солнце согревало твое ледяное тело, а по ночам ты могла считать звезды на небе…
— Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas noctes meum, lacrymis meis statum meum rigabo. Domine usquequo![88]
Мне не хотелось допевать припев до конца. Из холмика земли у могилы выглядывало что-то, на поминающее кость. Пепел к пеплу, прах к праху. Почему я не желаю, как все остальные, находящиеся рядом, принимать смерть как естественный процесс? Почему мне это не удается? Мое испуганное лицо было словно покрыто плотной завесой, когда носильщики подвинули носилки к могиле.
Заскрипели деревянные доски. Я вцепилась пальцами в обе планки носилок. Двое из них опустились в могилу. Мой взгляд проскользнул по мрачно одетым фигурам, остановившись на голубизне полуденного неба. Что-то загремело, когда тело сняли с носилок. У кого-то вырвался громкий стон, превратившийся в сдавленное рыдание, мучительно сотрясающее воздух. Две руки поддержали меня, не дав упасть, и только тогда я поняла, что и была той самой женщиной, которая так плакала.
— Turbatus est a furore oculus meus, inveteravi inter omnes inimicos meos. Domine usquequo![89]
Лопата со скрежетом погрузилась в землю. Я повернула голову, смотря ввысь и крепко держась за ветви грушевого дерева. Чьи-то руки обхватили мои плечи, и мужская фигура плотно прижалась ко мне.
— Держитесь, фройляйн. Скоро вы переживете это, — прошептал Гуго фон Кухенгейм.
Земля с шумом упала в глубину ямы. Так темно… Темная земля, холодная и сырая. Моя правая рука застыла в судороге. Следующая лопата.
— Domine usquequo!
Грохот. Дождь из земли. Грушевое дерево было моей опорой — зеленые листья, черные ветви, черная кора, черная…
Из-за дерева возникла черная шапка. Стала светлой на солнце раковина. К дереву прислонился посох паломника, без которого, казалось, фигура едва могла держаться на ногах. Длинный, изнурительный путь от гроба апостола сюда, в горы Эйфеля, путь, полный опасности, — дикие звери, разбойники и болезни, — полный одиночества и отчаяния в безвыходных ситуациях. Некоторым из паломников мы давали временное пристанище, они очаровывали нас своими рассказами. Сантьяго де Компостела! Город, в котором наша мать просила у Бога благословения на свой брак…
Должно быть, отец и этому паломнику дал кров. Напряжение чуть спало, я прислонилась к дереву. Мой взгляд с любопытством скользил по пыльной одежде, опущенным плечам и усталой спине — интересно, сколько ему могло быть лет?
Будто догадавшись о моем вопросе, он вскинул голову. Камень с глухим звуком упал на гроб — я, поперхнувшись, схватила себя за шею, зашаталась…
— Domine usquequo!
Тот, о чертах которого я больше не могла вспоминать, имя которого, казалось, было вычеркнуто из памяти, мучавший меня днем и ночью своими голубыми глазами, спокойно и печально смотрел мне в лицо, с трудом узнаваемое под покрывалом. «Любимая, подожди еще немного», — говорили его глаза.
Кухенгейм сильнее сжал мою руку, золотая пряжка его мантии впилась мне в спину, я сжалась, Кухенгейм склонился надо мной, в глазах его промелькнуло сострадание.
— Сейчас принесут паланкин, моя фройляйн.
Голос, хоть и ненавистный, помог мне; то, что он был рядом, доказывало, что я в сознании.
Паломник обернулся. Опершись на посох, он побрел к воротам монастыря, так понурив спину, будто взвалил на свои плечи все страдания мира.
— Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam, et secundum multitudinem meserationum tuarum dele inquitatem meam![90]
Miserere mei!
Amplius lava, me ab inquitate mea, et a peccato meo munda me![91]
Miserere mei
Антифонное пение прерывалось кашлем и шепотом. Побрякивало паникадило. Фулко благословил могилу и все присутствующее скорбящее общество. Монахи затянули посмертную литию, к ним присоединялось множество голосов.
— Ab omnio malo! Libera eum Domine![92]
Какая-то женщина в религиозном экстазе опустилась на колени на сырую землю.
— A periculo mortis! — Libera eum Domine![93]
Кое-кто устремился к выходу чтобы занять место в зале.
— Ab insidiis diaboli! Libera eum Domine![94]
Мимо пронесли паланкин, лошадь невольно заржала, когда два парня схватили ее за хвост.
— A Gladio maligno! Libera eum Domine![95]
Одетые во все черное построились в два ряда, продолжал песнопение, и покинули кладбище.
Девушки из свиты Аделаиды вновь принялись за болтовню и споры, кто и с кем займет место в паланкине. Хозяйка замка, не произнеся ни слова, потянула меня за рукав от моего защитника и указала на место рядом с собой. В голове моей зашумело, духи на кладбище захихикали, перекрывая голоса, звучащие вокруг. Аделаида задернула занавеску паланкина и схватила мою руку. Твердая, как камень, рука моя все еще сжимала деревянную розу, которую я хотела положить в гроб Эмилии, чтобы наконец стать свободной.
Двор замка был полон народа, запахи съестного стояли в воздухе, ударяя мне в нос, когда мне помогали выбираться из паланкина. Дамы поправляли свои шлейфы, чепцы и платья, украдкой посмеиваясь, как делали это без стеснения уже по пути домой. Мой отец взял за руку Аделаиду и направился ко входу в зал, чтобы открыть поминальную трапезу. Народ пошел за хозяином замка. Никто не осмеливался заговорить со мной, когда я, все еще закутанная в накидку, вошла в часовню.
Часовня была пуста. Дрожа, я опустилась на колени на свою скамью и уткнулась лицом в руки. В тишине послышался шорох — демоны преследовали меня. Эмилия… Глубокая яма. Я только хотела… Эмилия… что я должна была увидеть вместе с тобой, что?
Затрещала сухая древесина молельной скамьи. Я вскинулась от страха. Черный рукав, разодранный, пыльный. Паломник встал на колени позади меня. Голос мой прерывался рыданиями, я соскользнула с края скамьи, потеряв равновесие, — чьи-то пальцы, словно когти, впились в мои плечи.
— Тихо… патер идет за тобой. Сиди тихо…
Я едва осмеливалась дышать. Шаги приблизились. На полу, который долго никто не выметал, скрипнул камешек. Из-за колонны вышел патер Арнольд и перекрестился.
— Господь видит вашу готовность покаяться и благосклонен к вам, фройляйн. Но не следует ли вам окрепнуть, поправить здоровье, прежде чем вновь обратиться с молитвой к Господу? Ваша горничная…