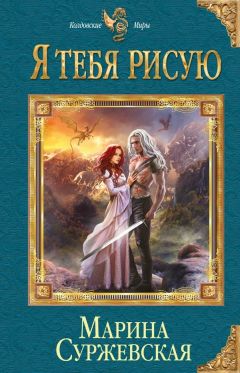— Славно. — Трей откинулся на спинку кресла и сел, прямо глядя в глаза Демиану. Взгляд вновь непроницаем, но Трей и не пытался проникнуть в сокровенное, как и осознать всю грандиозность его планов. — Ответь лишь на один вопрос. Как давно ты всё это затеял?
— Достаточно. — Демиан устроился на краю стола — привычка, оставшаяся с детских лет, мальчишеская поза, так не вяжущаяся с тоном разговора. — Достаточно, чтобы понять: заполучить Серебряный престол — меньшее, что предстоит исполнить.
— Ты рехнулся, — серьёзно сказал Трей, — но, наверное, так и должно быть. Никто в здравом уме не поверил бы в осуществимость подобной затеи.
— Ну а ты сам?
— А что я? — беспечно отозвался и потянулся, сцепив ладони на затылке. — Мы — братья. Разве у меня есть выбор?
— Братья, — откликнулся эхом.
— Да. И спрашиваю как брат. Когда ты отправляешься в Телларион?
— Сегодня же, — тихо ответил Дем.
Друг раздумчиво кивнул, как бы невзначай обращаясь взглядом в тишину дома.
Демиан закаменел лицом.
— За горло держит эта клятая Добрая Весь. Что я могу?.. ждать?
— Если без тебя она...
— Я знаю, Трей. Я знаю.
(Добрая Весь. Лето 992-го)
Во снах Дианы зацветают сады. Акварельные краски, игра светотени, воздух — тёплый, ароматный, в нём: яблони... вишня, черёмуха, сирень...
Трели и щебет, шелест трав, шорох дождей и рокот гроз. И всё: далеко-далеко... Будто бы даже не во сне — так: сон во сне. Точно затейливая игрушка.
И громовые раскаты становятся тише, тише... тише сокровенного зова одинокой птицы. Полупрозрачные лепестки роняют хрустальные бусины, и те потерянным ожерельем рассыпаются в травах... и тают под лучом рассвета.
Диана видит всё это: бесконечные струны, и жилки, и потоки, пронизывающие весь Предел, каждую пядь его. Вот протянулись для неё алмазными низками ливниевые струи; вот шар в клубке ветвей, полупрозрачных будто бы, только пробегает то здесь то там флуоресцентная искорка. Шар живой, жёлтый — птица, и в сердечнике его пульсирует алый сгусток.
И всё здесь живое, дышит, вечно стремится, куда-то, зачем-то, и только она парит надо всем, в бесчувствии, в невесомости.
Предел говорит с ней, неисчислимыми тысячами голосов, и каждый звучит инако. Всякая травинка, всякий луч имеет слово — для умеющего слышать.
Чуткость её такова, что она способна различить каждый аккорд в гремящей симфонии Предела, но замыкает слух. Мир этот едва держит её, так мало она принадлежит ему.
И голоса, и образы — проходят сквозь неё, ничто не затрагивая; они всё тянутся к ней, словно мириады дружеских рук, а она уплывает дымом меж них, всё дальше... дальше... забывая себя, неспешно уносимая в глухое безмолвие.
***
Эстель не отказалась от своих слов Когану: отдавала всё время и силы заботе о теле хранительницы.
Согрейну не в чем было упрекнуть её, и всё же, всё же обращение его не стало теплее, и общение их он свёл на нет, ограничив редкими дежурными вопросами. Эстель, со своей стороны, никак не пыталась выслужить утраченное расположение.
Как бы то ни было, она и сама вполне сознавала: эта девочка — груз на её совести.
Мысль эта витала где-то около, когда Эстель отворяла окна, и бледно-розовое кружево соцветий ложилось на подоконник, ворохом девичьего приданого, вынутого из сундука.
...когда по сотне раз проводила частым гребнем по жаркой, податливой волне волос и заплетала в косы.
...когда отирала влажной губкой кожу, светлую, прохладную, словно бы уже мраморную кожу.
И надевала сорочку.
Обряжала — как невесту.
Или покойницу.
Эстель подолгу смотрела на Ариату: застывшие в покое черты, изогнутые, точно подведённые брови. Долгая тень ресниц и ускользающий, полупрозрачный, как яблоневый лепесток на просвет, румянец.
И тогда иная дума проплывала краем сознания: для кого она убирает и готовит эту девушку? Для собственного сына и брачного их ложа, на которое, кому как не Эстель, отвести невесту?
Или огненной крады, куда кто как не Демиан её отнесёт?
Пока Демиана не было в Доброй Веси, она малодушно отгоняла обе эти мысли, чёрные птицы, задевавшие крылами одна другую. Пока лишь сторожко кружившие около... Готовые вонзить клювы в податливую устричную плоть.
Но вот настал день.
День, в который ей держать ответ.
Вспомнит ли он её, по лицу, повадке, голосу? Вопрос этот захватил её разум, не оставив места иному.
Терзания её были напрасны.
Если Демиан и узнал недолго виденную в Синаре леворукую лекарку, придал мало значения встрече. Да и стоило ожидать обратного? от мага, на плечи которого бременем лёг весь Предел? Это Эстель словно бы застыла во времени, запечатала себя, как бабочка в янтаре, в своём ожидании. В бесконечно длящемся дне ожидания.
Для него же время, напротив, протекало не вовне, но насквозь, изменяя, преломляя... ломая. И не проходило оно — мчало, всё убыстряясь, словно бы её сын метнул себя, как камень, в самый водоворот его, и дни шли по цене месяцев, месяцы отбирали годы. Сколь многое переменилось в нём от первой до второй их встречи... тем зримей для Эстель от того как редки были эти встречи, точно украденные: и едва приметный след недобрых мыслей, пролёгший чертой меж бровей — как уродливо зарубцованный шрам для её глаз матери. В третий раз Эстель видит своего взрослого сына — и он точно старший брат первым двоим.
Теперь к нему и не приблизиться так просто — как в сказке гостю с Той Стороны не преступить порога запертого дома. Даже и лишившись первоисточника, Эстель собственного чутья доставало понять — Демиан преисполнен силой, выплёскивающей вовне, как торфяное масло. Силой тягостной, густой, гнетущей.
Неблагой силой.
Нечаянное это откровение снизошло так страшно, что Эстель постаралась уверить себя в ложности его, и ей почти удалось. В самом деле, ей ли нынче судить о природе сил? Быть может, сам облик Демиана вызвал в ней это мрачное впечатление. Эстель сама снимала с него пропитанную кровью одежду, разрезала и снимала слой за слоем — так знакомую ей традиционную одежду ведьмака, простую, ладно и разумно кроёную. Сколько раз её руки освобождали Эджая от этих покровов? поначалу стыдливо, едва участвуя... вскоре — нетерпеливо и уверенно: "скорей, скорей!" И не видела на сыне ни единого амулета, ни тонкого колечка, а теперь он был весь точно клеймён ими: знаки, знаки, так и сочащиеся силой.
Чёрный бархат камзола, жёсткое серебро вышивки на чёрной мантии с чёрным подбоем. Чернёное серебро насечки наборной перевязи, оскаленные пасти химер на перстнях поверх перчаток змеиной кожи.
Он вошёл и словно выпил весь воздух и застил свет летнего полдня, вобрал чернотой одежд. Он молчал, и Эстель заговорила, не дождавшись вопроса. На неё он не смотрел, лишь на Ариату, ведьму, вычерпавшую себя до дна.
Лицо его ничто не выражало.
Эстель вдруг внове показалось, как темны его глаза, так, что не различить границу зрачка и радужки; у Эджая не было таких глаз.
— Телесно она здорова совершенно...
Этот месяц молодая хранительница не испытывала ни голода, ни жажды, ни иной нужды — о том позаботилась магия.
Эстель говорила медленно и ровно, тщательно подбирая слова. Про себя она не единожды проигрывала весь этот диалог, все возможные его варианты. Как опытная лицедейка, она переживала этот разговор уже сотню раз, и потому могла оставаться внешне бесстрастной, деловито-собранной, и знала это.
— Сознательно ли она действовала или по наитию; не сумела вовремя остановиться или пошла до конца... понимая, что отдаёт больше, чем может отдать. Вы должны знать о хранительницах, которые гибли, не совладав с потоком силы. Это... как если бы разлившаяся река сломала плотину.
То, что она ещё... дышит — результат сплочённых усилий десятка лучших целителей Предела. Вся та энергия, которая заставляет биться её сердце, наполняет лёгкие, разгоняет кровь и питает плоть — вся она поступает извне.