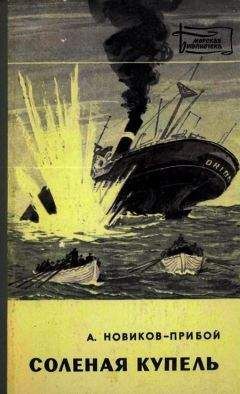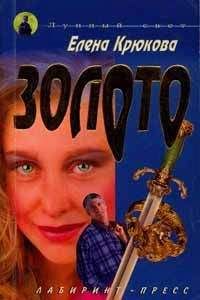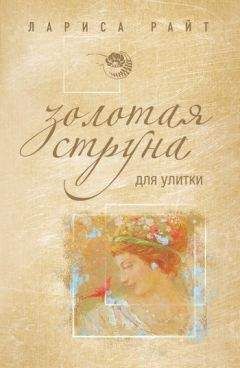Но если он мертв, значит, жив был когда-то?
Ром бессильно опустил руки. Труба упала из рук в снег, под ноги, покатилась по тротуару. Он поймал ее, отряхнул от снега рукавом. Холод мира! Не растопить. Не победить. Горячее его сердце больно, резко билось о ледяные ребра.
Изучить Космос. Полюбить его. Весь все равно не познаешь. Все жизни все равно не проживешь!
Живи свою. До конца.
– Конца не будет, – прошептал Ром себе самому очень тихо, – я что-нибудь придумаю.
Прежде чем уйти с улицы домой, он нашел, нашарил почти вслепую на выгибе гигантского черного шатра маленькое светлое пятно, смутное свечение – словно язык белой тусклой далекой свечи. Самая ближняя галактика. Туманность Андромеды. Какая она красивая, какая…
Два миллиона лет свет от нее к твоим глазам бежит. Два миллиона лет.
Подзорная труба чуть не хрустнула в его руках. Еще немного – и он сломал бы ее.
Опомнился. Побежал домой.
Едва не упал, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца.
Милагрос и Фелисидад поехали вместе на пирамиду. Одни.
Милагрос всегда говорила мужу, куда уезжает. Она отличалась большой честностью, даже щепетильностью; она могла скрыть что-то от домочадцев, но от Сантьяго у нее никогда не было тайн.
Но тут она ничего, ничего не сказала ему.
Они обе, мать и дочь, погрузились в автобус, и перед ними открылась дорога – не ближняя и не дальняя; под палящим солнцем, среди белых домиков на окраине Мехико, потом между плантаций голубой агавы, потом в пыли, вдоль полей приусадебных участков, все выше и выше в горы.
И черные кудрявые горы надвинулись на них и скрыли от них раскаленную сковороду Солнца. Это уже вечер и закат, и надо спешить.
– Мы успеем на последний автобус, мама?
Милагрос покосилась на дочь. На лице Фелисидад было ясно написано: «Мам, я делаю тебе приятное. Видала я в гробу это колдовство наше семейное! Я поехала сюда лишь для того, чтобы ты не ворчала!»
– Да, конечно, успеем… – Она погладила Фелисидад по нагому коричневому плечу. – Фели.
Они вылезли из автобуса на станции около поросшей лесом горы. Купили в кафе треугольные пакеты с коктейлем – молоко и клубничный сок, о, это так вкусно в жару! Пили под навесом, пили-пили, еле выпили! И Фелисидад гладила себя ладонью по животу: о, напилась от пуза!
Когда проходили мимо гостиницы, Фелисидад жалобно вздохнула.
– Что вздыхаешь?
– Поваляться бы на кроватке!
– Может быть, еще и с парнем?!
– Я бы не отказалась!
– Хм, дочка! За словом ты у меня в карман не полезешь!
– Не полезу, это точно!
Так, перебрасываясь веселыми жаркими словечками, словно жонглируя горящими смоляными палками, мать и дочь дошли до подножья горы.
– А теперь что, в гору ползти? – Фелисидад скорчила рожу. – А пирамида-то где? Я ее отсюда не вижу!
– Еще увидишь.
Милагрос быстро и благоговейно перекрестилась на маленькое каменное распятие: оно стояло в темной нише, вырубленной в скале. Фелисидад пожала плечами: идет меня учить колдовству, а сама на Христа крестится! Но повторила точь-в-точь ее нежный, стремительный жест.
Быстро перебирая ногами, обе женщины, старая и юная, стали подниматься в гору. Скоро запыхались. Милагрос встала, отирая пот с лица, и выдохнула:
– Помедленней, дочка! Сердце из ребер выскочит!
Они умерили темп. Наступали широко, на всю стопу. Под ноги им то и дело из придорожных кустов выпрыгивали носухи с хитрыми узкими мордами и пушистыми полосатыми хвостами. Носухи подбегали к ним и беззастенчиво тыкались мокрыми носами им в колени и ладони: просили еды. Милагрос открывала сумку и вынимала кусочки хлеба и куриные огрызочки, заботливо сложенные в мешочек. Носухи хватали снедь зубами и, вильнув хвостами, убегали с угощеньем за скалы, а иные косточки грызли тут же, при дороге. Крупная носуха взяла кусок хлеба в лапки. Поедала его совсем как человечек. Милагрос умиленно глядела на зверьков.
Фелисидад насвистывала сквозь зубы модную песенку.
Милагрос ткнула дочь пальцем в бок:
– Посмотри, какие они смешные!
– Заведи себе носуху, как кошку, мамита…
– Не мели чушь! Носуха – зверь свободный!
– Я тоже свободный зверь!
– О да, ты зверь, зверюга!
Шли дальше. Гора росла перед ними и вырастала. Сколько бы они ни шли – все далеко было до вершины.
– Мама, а пирамида на вершине? – тоскливо спросила Фелисидад. Ей уже надоело это путешествие. Лучше бы она сегодня опять прискакала в кафе к Алисии!
На мгновенье перед ее лицом закачалось острое, как обсидиановый нож, лицо того худого марьячи. Он похож на таракана. Кукарача. Да, стоп, Кукарача. Они так его и зовут, его друзья. Жарко стало животу, груди. Влюбилась?! Еще чего! Просто он прикольный! И поет хорошо.
– На вершине, конечно, где же еще!
И вот она, вершина. Уф. Наконец-то!
Древние камни пирамиды залиты бычьей кровью заката. Раскалились за день.
– Фу, какая же она маленькая, – разочарованно пожала плечами Фелисидад, – какая дохленькая!
Пирамида, сгорбившаяся в закатных лучах черная каменная носуха.
Милагрос сложила руки на груди и что-то пошептала.
Потом крепко, горячей рукой взяла дочь за руку, и дочь вздрогнула.
– Мама! Больно!
– Умей терпеть. Умей не кричать.
Мать не выпустила ее руки. Потащила за собой. Шаги Милагрос внезапно стали крупными и резкими, как у мужчины. Фелисидад еле поспевала за ней.
Они вместе, рука в руке, вошли в низкую маленькую дверь, зияющую чернотой в каменной кладке. Фелисидад подумала: как мы увидим друг друга во тьме? Но близ входа сидела девушка, а перед девушкой стояла корзина, а в корзине лежали свечи, много белых толстых свеч. Милагрос дала девушке деньги, девушка, шаря странно дрожащими пальцами в воздухе, протянула Милагрос две свечи.
Фелисидад увидала: девушка – слепая.
И ей захотелось склониться и поцеловать слепую девушку.
И она сделала это.
И мать одобрительно смотрела, как смешались кудрявые волосы двух девушек – слепой и зрячей.
Слепые губы нашарили зрячие губы. Слепая щека коснулась зрячей щеки.
Слепая рука нашла зрячую руку, и слепой лоб лег в зрячую ладонь.
И Фелисидад почувствовала себя слепой, а слепую девушку – видящей все-все.
Вырвала руку. Поклонилась слепой продавщице огня.
– Спасибо… большое…
Милагрос вытащила из кармана спички. Фелисидад – зажигалку. Кто скорее зажжет огонь?
– Ты куришь, дочь!
– Сколько раз говорила уже тебе: нет, мама, нет, мама, нет!