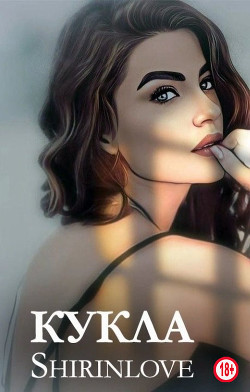— Э! Пакость! Ты куда намылился-то? Уж не в деревню ли? Нам упырей не надобно! Ты мне смотри, я завтра соберу сельских и пожжём домишко твой к чертям собачьим. Чтоб и духу твоего не осталось. Неча достойных людей стращать!
— Деревню ж спалишь. Почти все дома деревянные, дурная башка, — не оборачиваясь, я усмехнулся. После всего услышанного, его угрозы совершенно меня не трогали. Да и за халупу эту не особо держусь. Если повезёт, уже скоро снова зверем обращусь: так мне любое дупло дом будет, с тем же успехом.
Отвязавшись от Михея, впервые зашёл в свой старый дом человеком. Руками отворил дверь косую. Висевшая на одной петле, чуть не упала на меня навзничь. Петли прогнили и заржавели. На соплях держатся, как батька говорил. Приладил её кое-как, чтоб хоть не нараспашку, зашёл, осмотрелся. Лёг на койку свою. В животе урчит, прям как в детстве. Вот также: в темноте, глухом беспросветном одиночестве лежал и пытался унять сосущее чувство голода в животе.
Вернулся, откуда начали. Добро пожаловать домой, Емеля. Живи и не забывайся, кто ты есть и где тебе место. Хороший урок, ничего не скажешь. Прикрыл глаза, а всё она стоит в памяти. Смотрит осуждающе, головой качает.
Иди домой, Ян.
Ну вот, пришёл. Дальше-то что? Хоть бы сказала.
– Василиса!
Внезапная вспышка, и дом Яги за секунду весь охватывает ярко-оранжевое пламя. Обычный огонь таким не бывает, видать, магия. Чтобы так разгореться даже в старом домишке, нужно время, а тут моргнуть не успел.
Я стоял тут уже битый час, ждал, смотрел. Думал, может, вблизи Иркиной племянницы моё проклятие работает. На глаза ей попасть не старался, прятался за большой осиной, росшей с нашей стороны, где дорога уходит мимо села, на Могилев-Кощеев. Раскидистая, пышная крона хорошо скрывала силуэты. Даже выгляни Васька из окна – не заметила бы, если б специально не стала всматриваться и искать.
Уверившись, что либо расстояние не то, либо не в близости Василисы дело, я уж собирался уходить, как изба вспыхнула заревом.
Бросился вперёд, выкрикивая её имя. Вроде бы время не прям позднее, не должна спать ещё.
— Василиса! — половицы порога, где мы сидели совсем недавно, целуясь, уже грызли голодные языки пламени. Осознав, что отсюда к дому не добраться, кинулся в сторону окна. А оно ж высокое, зараза — не видно ни черта.
— Василиса!? — может, дома нету? Уберёг Господь? Поставил ногу на выступ, подтянулся за раму, дым в глаза лезет — аж слёзы наворачиваются. Даром что на улице, а всё равно царапает горло и кашель пробивается наружу из лёгких. — Ты там?! Ударил локтем в окно — ничего. Ещё раз...
— Угоришь, дурак. Там в огне всё, — знакомый голос змеёй заполз по спине. Оборачиваюсь, едва не свалившись, сильнее сжимаю подоконник пальцами.
— Сгинь! По её душу, что ли, пришла? Мстить?
— За что мне ей мстить, Емеля? Родная кровь не водица, — Иринка уж больше не страшная упырица, как явилась мне тогда. Ладная, как живая, стоит и смотрит с насмешкой.
— Тогда помоги лучше, — огрызнувшись, снова ударяю локтем в окно. Стекло бьётся, и жар пожарища ударяет в лицо, выпуская на свободу новые языки огня. Голодными зверьём кидаются они на оконные рамы.
— Так я и помогаю, дурень, — Иринка смеётся, не сдвинувшись с места. — Вот скажи мне, Ян, ужель угореть не страшно? Ради девки чужой?
Не отвечая ей, пытаюсь сбить пламя с рамы, чтобы пробраться в домишко, силюсь разглядеть что-то в дыму, кажется, будто на полу лежит бездыханная Васька и страх обжигает нутро сильней любого огня.
— Чудно. За меня так не боялся…
— Всё никак простить не можешь? — подтянувшись, примеряюсь нырнуть в оконный проём. Если успею схватить её и вынести через дверь — считай, повезло. А нет, так хоть в это же окно вытолкну.
— Давно простила, а то б не стояла сейчас здесь.
Спорить с ней некогда, махнув рукой, ныряю с головой в дымную комнатушку, закашлявшись, падаю на четвереньки и шарю руками, ища Васькино тело. Ирка оказывается тут же, садится на корточки, хмурится:
– Просыпайся, Ян. Угоришь.
Меня выкидывает из Васькиного дома волной, бьюсь спиной в дверь, выношу её с петель и… открываю глаза. Тут же закашлявшись от дыма, озираюсь. Темнота, запах гари, и только всполохи огня тут и там.
Подожгли-таки!Ужели Михей угрозу исполнил? Свалившись кубарем с кровати, ползком пробираюсь к двери. Слава Богу, что на соплях держится. Грудь жжёт, и каждый новый вдох даётся сложнее. С улицы доносятся крики, видать в селе уж завидели пожар и подняли суету. Когда до дверей остаётся всего ничего, прямо перед рукой падает с потолка балка. Отшатнувшись, ударяюсь плечом о стену, заходясь кашлем, ищу способ миновать горящую преграду и выбраться из этой трухлявой душегубки. Окно! Как во сне! Нужно добраться до окна. В глазах темнеет, грудь давит спазмом, голова тяжёлая и конечности свинцовые, кажется, невозможно поднять.
Ужели вот так и помру? Мне бы лаской обернуться. Я бы тогда юркнул в любую щель, а здоровый бугай попробуй выберись! Слева падает горящий кусок деревяшки и мумия то ли котёнка, то ли крысы, тут же вспыхивает, как будто намекая, что вот так же и я сейчас. Собрав последние силы, ползком вдоль целой ещё стены добираюсь до оконного проёма, с трудом поднявшись, толкаю рамы наружу. Шпингалет заржавел и не поддаётся. Ломаю ударом, как во сне.
Будто вещий приснился. Живой буду, клянусь, схожу на Иркину могилку покаяться да поблагодарить.
Подтянувшись, с трудом переваливаюсь через подоконник, повиснув кулем. Дёргаюсь туда-сюда, чтобы передняя часть перевесила. Кажется, что огонь уже лижет пятки, когда, наконец, падаю в заросший бурьяном палисадник.
— Говорил я им, упырь сюда пойдёт. Жечь его! А они не верили. Ничего, ещё спасибо скажут, — Михей оборачивается на шум и роняет из рук канистру.
— Ах ты тварь, живучая! Что Иринка повадилась ходить, теперь и ты ещё! Изведу вас чертей, даже памяти чтоб не осталось. Горите все синим пламенем! — Михей пятится, оступается, роняет что-то из рук. Мгновение и в ногах у него вспыхивает огонёк.
— Горю! — истошный вопль прорезает округу, перебивая галдеж сельчан, спешащих к парадной стороне дома. — Горю!
— Пока только орёшь. — На воздухе способность дышать почти восстановилась. Пусть под ребрами всё ещё пекло, но прохлада осенней ночи действовала на раздраженную дымом глотку как заморозка. Першение почти не переходило в кашель и даже голос пробивался наружу, пусть и звучал стало, как у вернувшегося с рудников чахоточника.
Не дожидаясь, пока Михей исполнит обещание и вспыхнет, кинулся ему на помощь. Не думал как-то в тот момент, какой гнидой оказался мнимый друг. Некогда было думать. Обида – обидой, но не гореть же ему живьём, в самом деле. Пьяный в усмерть, Михей запутался в руках-ногах (как только добрался сюда с канистрой и умудрился поджечь дом?) и снова упал рожей в землю, едва поднявшись на четвереньки. То ли страх тому виной, то ли развезло вконец. Пришлось волоком его оттянуть подальше от пожарища. Так этот козлина ещё орал:
— Упырь проклятый, не тронь.
Потом, осознав, что вытащил его на траву, заткнулся, с удивлением глядя, как пытаюсь отдышаться: от натуги подранное дымом горло снова свело приступом кашля.
— Ты это… что же? Спас меня? Ты ж упырь и душегуб!
— Я тут понял, что иные упыри куда лучше людей, Михей, — в нашу сторону уже бежали сельские. Какая-то баба с метлой. Бог ее знает, зачем метла сдалась на пожаре. Мужик бородатый за ней следом. Судя по всплескам и шипению, с той стороны, где крыльцо, народ дружно тушил огонь. Не ради спасения моего никчемного имущества — за свое пеклись.
Встречаться ни с кем из них я не желал, так что нырнул в кусты, чтоб затеряться поскорее огородами. Правда, идти было некуда. Дом-то сгорел.
Вспомнив свое обещание, повернул левее, туда, где ближе к горе, на границе села хоронили покойников. Говорил же, что навещу, если жив останусь. Самое время. Пусть бабка и не велела ночами к погосту бегать, мол, нечего тревожить-то, да только я давно уж не шугался мертвяков. Сколько всего стряслось: тут либо примешь, как есть, либо кукухой съедешь.