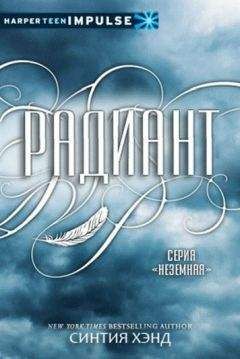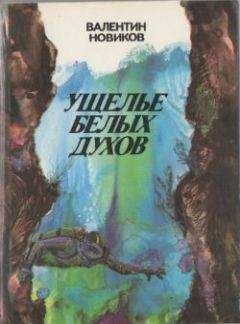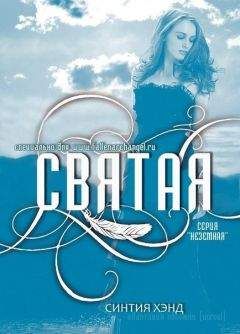У меня появляется это странное тревожное ощущение, прокатывающееся по позвоночнику.
Я поворачиваюсь к Анжеле. Она смотрит в окно, где нет ничего, кроме темного тоннеля, по которому мы движемся. Она заправляет за ухо прядь волос, затем кладет руки назад на колени и принимается безостановочно крутить кольцо на указательном пальце, нервная привычка, которой я раньше у нее не замечала.
Я снова бросаю взгляд на парня. Мы встречаемся глазами, его улыбка становится шире, глаза понимающие, почти смеющиеся.
- Энжи, - говорю я, вновь поворачиваясь к ней. – Кто…
Вдруг меня озаряет. Это должно быть таинственный парень Анжелы.
Ага. Я спрашивала себя, объявится ли он когда-нибудь? Я даже отпускала глупые шуточки, когда мы впервые оказались в Риме, вроде: « А где же Таинственный Незнакомец?», и Анжела одаривала меня таким взглядом, от которого бы цветы завяли, поэтому я прекратила. Я пыталась спросить ее об этом на прошлой неделе, но она повела себя так, словно у нее в Италии куча парней, а не один единственный. А теперь он здесь, во плоти, и Анжела так отчаянно пытается это скрыть.
- Ооо, - говорю я, начиная улыбаться от облегчения, что нет ничего опасного. – Понимаю. – Она наклоняется вперед и хватает меня за запястье. Сильно.
- Не читай меня, - выдыхает она. Но прикасаясь ко мне, она только делает так, что мне становится проще поймать ее чувства. Я вижу этого парня вспышками ее глазами, в воспоминаниях, его лицо совсем рядом, его глаза чудесного шоколадного цвета, его теплое дыхание напротив ее щеки, когда он подходит ближе, переводит взгляд с ее глаз на губы.
Я вырываю руку из ее хватки. Голос сверху объявляет остановку, и поезд начинает замедляться. Мы еще двух остановках от нужной, но Анжела вскакивает.
- Пошли отсюда, - громко говорит она. – Здесь воняет.
Я не спорю. Поезд останавливается, открываются двери. Я иду следом за ней, и несмотря на то, что она старается вести себя как обычно, я ловлю ее нарочито безразличный взгляд, брошенный в сторону итальянца. И ловлю его кивок в ее сторону. Он все еще улыбается.
Словно раскусил ее блеф.
Мама постоянно повторяет, что любовь похожа на укус змеи, яд медленно растекается по венам. Она никогда не рассказывала мне о своей любовной истории, о муже, который у нее был за несколько лет до моего рождения, а затем умер, тем самым разбив ей сердце. Все, что у нее осталось – это определенная страсть к религии и ее работе по управлению «Розовой подвязкой», или порой ко мне, когда я надеваю что-то слишком короткое, или моя помада слишком красная. Она бросит на меня взгляд и, схватив за руку, потащит в свою спальню с портретом Иисуса на стене. Она посадит меня на маленький плетеный стул у кровати и будет рассказывать о том, что любовь похожа на укус змеи. Это нечто опасное. И нечто плохое.
- Ты должна защищать свое сердце, - всегда говорит она.
Но что странно (кроме того, что у Иисуса у нее на картине голубые глаза и прямые золотистые волосы – да ладно) я думаю, она действительно имеет в виду мое сердце. То есть, говоря слово сердце, она не подразумевает слово девственность. Она не упоминает о похоти, хотя это, конечно, тоже плохо. Она говорит о любви.
Мама боится, что я полюблю.
- Защищай свое сердце, Анжела, - говорит она, и я киваю и говорю ей, что буду. Никакой красавчик не украдет мое сердце. Ни шанса на любовь.
- У меня нет времени на парней, - говорю я, а она отвечает: - Хорошо, - похлопывает меня по руке и смотрит на Иисуса, словно в комнате нас трое – я, мама, и Иисус – маленькая счастливая семья, которая только что закончила семейный разговор.
Хороший разговор. Проблема решена. Никаких назойливых историй с влюбленностью.
Но я задаюсь вопросом, не является ли причиной этих антилюбовных разговоров мой отец, человек, который меня сделал? Не думает ли она, что я должна избегать любви, потому что где-то глубоко внутри во мне есть что-то темное? Что-то, не заслуживающее любви?
Эту историю она рассказывала мне три раза, каждый раз отвечая на меньшее число вопросов, чем я задавала. Она гуляла вечером по Риму. Несколькими месяцами ранее от рака скончался ее муж, и она обезумела от горя. Она жила у матери, в окружении шумной толпы Зербино. Ей это было полезно, сказала она, быть частью шумной, энергичной семьи, каждый день хорошо питаться, получать напоминания о жизни. Но в тот вечер ей хотелось тишины. Ей хотелось побыть одной. Она пошла в Сан-Марко на мессу, и ангел шел за ней до дома. Она проснулась и увидела его темный силуэт, склонившийся над ее кроватью. Парализованная. Не в состоянии издать ни звука.
- Он сказал тебе что-нибудь? – спросила я ее однажды, но она покачала головой, отвернулась, ее пальцы впились в маленькое золотое распятие, которое она носила на шее столько, сколько я ее помню. Она оставила меня с образом этого темного сумрачного силуэта. Его черные крылья отсекали свет.
Мое зачатие не было актом любви. Для нее я была проклятьем.
Она вернулась в Штаты и спряталась, спрятала свой растущий живот, свой позор. Так она отрезала себя от родных и друзей. Все думали, что она горюет из-за смерти мужа, так оно и было, но она горевала еще и по себе самой. Часть ее умерла той ночью, сказа она мне. Но однажды утром к ней пришел другой ангел – она прозвала его золотым человеком – который сказал ей, что я была не проклятием, а благословением. Он сказал, что я буду поразительным ребенком, рожденным ангелом и человеком. Сияющий ребенок, сказал он. Чудо.
Вот тогда-то ее и посетила мысль назвать меня Анжелой, и как-то после этого она решила полюбить меня.
Может, именно про этот укус змеи она и говорит. Может, именно любовь ко мне было медленно отравляющим веществом в ее крови, словно я была болезнью, заразившей ее. Она не хотела любить меня, и все равно любила. Она не могла этого изменить. Но это не объясняет, почему она настаивает, чтобы я держалась от любви подальше, словно знает обо мне что-то, чего не знаю я сама.
- Защищай свое сердце, - постоянно повторяет она.
Я не говорю ей, что влюбилась два года назад. Сильно, глубоко и по-настоящему – не так ли поется в песне? – я влюбилась. Вот только у меня кишка тонка в этом признаться.
Анжела не сказала и двух слов, пока мы идем домой по старой булыжной мостовой. Она идет так, будто опаздывает, почти бегом, иногда проводя ладонями по голым рукам, словно ей холодно, несмотря теплый вечер. Я пытаюсь держаться от нее подальше, дать ей немного личного пространства, но это сложно. Они поругались, когда виделись в последний раз – невольно улавливаю я. Они поругались, и она злилась, уходя от него, и задавалась вопросом, увидятся ли они когда-нибудь снова. А сейчас она мечется в панике, ее гордость задета, и ее раздирает желание, такое сильное, что у меня перехватывает дыхание.