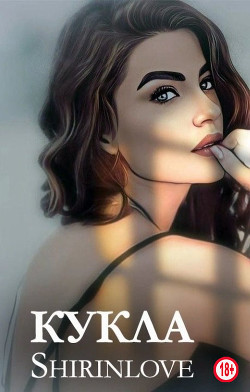Ночи тихие, не бойся. В дом никто не войдёт, у нас кот лучше собаки сторожит, — обратился ко мне. — Завтра пришлю человека, посмотри, что тебе понадобится, список приготовь. Пока мы будем в отъезде, он тебе поможет если что вдруг надо. Парень проверенный, не волнуйся, не обидит. Яда, давай уже, нам пора, ночь на дворе, ты же знаешь, гости туда-сюда шастают.
Странные…
— О, да. Нам пора, — она виновато смотрит на кота и птицу. — Я загляну, попозже. Но, есть шанс, в этот раз точно! Сегодня знаки целый день меня вели, — мурлычет котану на ушко, мягко поглаживая по шёрстке. — Будь хорошим мальчиком, Вася. Тем более, вот, тёзка твоя. И у неё ласка есть! Примите как своего!
— Кстати, о хорьках, — Кирилл лезет в переноску. В руках у него спящий в полном отрубе зверёк. — Какой-то полудохлый он. Точно очухается?
— Точно, — кивает Яда. Подойдя ближе, ласково чешет хорька меж ушей. — До утра проспит уж. Ты ему местечко сама подбери, где спать уложишь, ладно?
— Хорошо…
— Но лучше недалеко от себя. Он в новом месте проснётся, а твой запах уже знает, чтоб поспокойнее был.
— А если укусит?
— Нет, не бойся, точно тебе говорю.
Ян
Больно-то как. Это я вчера подрался небось с сельскими-то. Притащились, с соседнего Залесска, наглые рожи наших девок клеить. Самим мало, а тут эти…
Девки у нас в селе ладные, правда, всё больше теперь по "Костям" шастают. Местные им уже недостаточно хороши, городских, парфюмированных подавай. А было время какое… раньше-то.
Что ж так болит в боку? Хорошо, видать, меня отмутузили. Надеюсь, проломил пару голов в отместку… или это мне проломили. Не помню ни черта. Вроде и не пил до белых чертей, а чертовски хреново! В голове чернота и туман, как после самогонки бабы Любы.
Со стоном оглядываюсь. Изба не моя, незнакомая: склянки какие-то, травой воняет, аж нос заложило. Сарай, а не хата. Это у кого ж я так заночевал без удобств? Надеюсь, у приютившей ревнивого мужа нет. Не чувствую сегодня сил отбиваться. И так вон еле дышу, видать, рёбра мне переломали, гады Залесские.
Что-то чёрное огромной тучей движется с угла. Пячусь, шаря лапой в поисках дубины или ещё чего тяжёлого.
ЛАПОЙ.
ЛАПОЙ, твою мать!
Это ж что я пил до таких глюков?
Воспоминания картинками мельтешат в голове, вспыхивают, гаснут. До боли в глазах.
— Я ведь любила тебя, Ян! За что ты так? — некогда сине-свинцовые, как грозовое небо, глаза соседской Иринки теперь водянистые, потустороннее — пустые блюдца. Зрачок мутный и кожа зеленцой отдаёт.
— Чур меня, пить брошу! Вот те крест брошу пить!
— Тебе бы всё бросать. Меня, пить… Хотя пить бы бросить не мешало, да.
— В гробу я тебя видел с советами вместе! — буквально причём. Дня четыре, как справили поминки. Лично могилку копал. Землицу бросил, как положено. Хоть и не жених, а всё ж в последний путь проводить надо. Бабы все шептались: подымется неупокойница. Нет, мол, покоя утопленницам незамужним. Как будто замужние только в посмертии покой и обретают. Ишь. Это мужику женится — хомут на шею. А бабе что? Сидишь дома, как сыр в рассоле. Довольная, на полном обеспечении. Знай рожай да расти. Это тебе не лес рубить в поте лица. Потому и не захотел я жениться, на Ирке-то. Пришла, рыдает, мол понесла от тебя, батька с мамкой прибьют, если узнают. А я что? Служба спасения? Так и сказал, ещё надо доказать, что от меня. И вообще, я молод и полон сил, рано мне иждивенцев на шею камнем вешать. Ушла. Рыдая, всё живот рукой прикрывала. А потом… новости по селу пошли, что Иринка утонула на вечерней заре. Говорят, пошла купаться в одиночку. Искали дней пять. А как нашли, у меня чуть желудок через рот не выпрыгнул вместе с кишками. Глядел на утопленницу и вспоминал, что целовал распухшие синие её губы. Нет, когда целовал, нормальные были, яркие, как подведённые сладкой малиной, так и горели призывом на загорелом, красивом лице.
— Я ведь всё равно тебя люблю. И простила уже. Идём со мной. Будет у нас жизнь вечная.
— Да ты мне и живая на вечную жизнь с доплатой не нужна была, а упырицей так тем более не сдалась. Кто ж позарится, ты ж нежить хладнокровная. Лягушку целовать и то приятнее, небось.
Иринкино лицо исказилось сначала обидой, потом злобой. Глаза налились слезами и стоило первой соскользнуть со щеки, удариться о землю моего небольшого участка, куда дура эта явилась на порог за любовью, распалась утопленница водой болотной. Обдало меня этой жижей с головы до ног, а стал отплёвываться ещё и в рот набилось, и в глаза.
— Грязней этой жижи твоя душа, дровосек, — голос вроде Иринкин, а вроде уже и не её, застучал в голове, как будто внутрь меня пролез, прямо в мозг. — Нет в тебе ни любви, ни сочувствия чужому горю. Неласковый ты, бессердечный. Быть тебе ласкою в наказание. До тех пор, пока…
А дальше чернота.
В смысле лаской?!
Чёрная тень закрыла собой всё, отвесила мне смачного леща ни за что, аж к стене отлетел.
— Да у вас тут гостеприимство евро уровня, твою мать! — от встречи со стеной в голове затрещало. Потом бабахнуло. Это я что? Мал да удал? Пробил собой окно из этого тёмного царства на свободу?
Да вроде всё так же, стена под спиной. Деревянные балки неприятно давят кожу.
Кожу?!
Трогаю руки. Человечьи.
Привиделось что ли? Кончилось проклятие упырицы-мокрицы!
Подпрыгнув на ноги, подхватил местную охранную систему пушного вида на руки.
— Правильно говорят, кот — защита от тёмных сил. Заведу себе такого, вот те крест!
Кошак забился в руках, не похоже, чтоб от радости, выпустил когти и полоснул меня по роже.
— Ах ты тварь неблагодарная! — отшвырнул его от себя и тут же что-то как долбанёт по самому темечку! Чертыхаясь, отмахиваюсь, не глядя от невесть откуда взявшегося ворона. Какие ж богатства надо в этой хибаре хранить, чтоб такую защиту прикармливать?
— Что у вас тут за цирк ручных уродов?!
Кот и ворон. Это меня к Ладомиле, что ли занесло? Вот же не фартит! Она, говорят, та ещё ведьма старая! Надо валить срочно… штаны б только раздобыть. А то приметно очень голышом до хаты шлёпать. Я парень видный, стесняться нечего, но хочется незаметным домой прошмыгнуть. Хрен его знает, что я за беспамятство опять наворотил. Накостыляют по