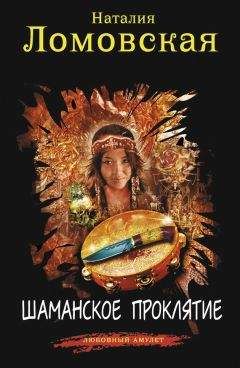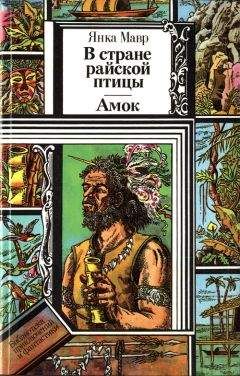– Как там Римма, Сережик?
– Все так же. Никаких улучшений… но и хуже не становится.
– Мама, должно быть, замучилась?
Сергей неопределенно кивнул. Отец все же раскошелился на сиделку. Ширококостная, широколицая, женщина приходила с утра – отчего-то ни с кем не здороваясь. Умывала свою подопечную, прибирала ее, кормила завтраком. Заканчивалась ее вахта поздним вечером, и уходила она, не прощаясь, а чаще оставалась ночевать на узкой и жесткой кушетке в комнате Риммы… Она говорила так мало, что Сережа думал – не глухонемая ли? Но как-то услышал, что сиделка рассказывает Римме какую-то историю из своей жизни, а больная отвечает ей теми гукающими и шипящими звуками, что остались ей взамен человеческой речи. Эти две женщины, казалось, вполне понимали друг друга, тем более что сиделка тоже произносила слова так, будто они состояли из одних только согласных. А мать боялась сиделки, ее угрюмости и молчания, и, вероятно, чувствовала себя лишней в собственном доме. Отец же заходил редко и боялся смотреть сыну в глаза, только совал деньги. Но об этом он не стал говорить тетке, тем более что они уже приехали.
Квартирка у Нины была в две комнаты – маленькая после провинциального раздолья. В прихожей не развернуться, балкон в длину два шага, в ширину полтора. Но светло и просторно, потому что мало мебели, мало вещей, нет ни ковров, ни тяжелых штор, ни диванных подушек. И пахло приятно, и вообще, казалось, что живет тут юная, легкая на подъем девушка.
– Вот это будет твоя комната, осматривайся, осваивайся, прими душ с дороги, завтракай, чем сыщется, – скороговоркой пробормотала Нина. У нее слипались глаза, аврал давал о себе знать. – Я посплю, ладно? А проснусь, сходим куда-нибудь.
В холодильнике скучал одинокий йогурт, хлебница пустовала. Электрический чайник у тетки крошечный, холостяцкий. Кофе в банке осталось на донышке, сахара вообще не нашлось, зато отыскалась банка оливок, банка маринованных мидий, бутылка водки и бутылка мартини. Вздохнув, Сережа сообразил, что тетка, верно, не питается дома. Что ж, будет и он привыкать к столичной жизни.
А через два дня Сережа уже стоял перед Щукинским училищем. Курс набирал народный артист России Рожницын. Кумир семидесятых, белозубый герой, советский аристократ, он с возрастом отяжелел, обрюзг, обзавелся язвой желудка. Он пережил свою славу, но не свой легчайший, очаровательный талант. Бледные абитуриенты делились невесть откуда добытыми сведениями – не любит смазливых, уважает тех, кто умеет танцевать. И петь. И плакать. Минус. Плюс. Минус. Плюс. Ничего, прорвемся!
Акатов поступил с первой попытки – очень понравился приемной комиссии. Понравился чуть больше, чем самому мастеру.
– Поменьше бы самолюбования, побольше искренности, – вздыхал тот.
– Обтешется, Юрий Григорьевич. Бери, не ломай голову, – нежно посоветовал ему Эрик, преподаватель танцев.
– Это только танцоры ломают не голову, а ноги, – непонятно проворчал злоязычный Рожницын. Но мальчика взял. Может, правда, обтешется? Отчислить-то всегда успеем…
Она не любила вспоминать детство, она старалась не думать о нем – это было давно, и неправда, и не с нею. Но все равно вспоминала против собственной воли. Не так легко забыть холод, куцее пальтишко, дырявые сапоги, колготки, вечно порванные на коленях.
– Кости у тебя, что ли, такие острые, – бормотала мать, низко склоняясь над штопкой. – Починю-починю, и вот снова-здорово…
Штопала мать плохо, вместо дырочки на коленке появлялась путаница из ниток, всегда неподходящих по цвету. Над Адой смеялись – сначала в детском саду, потом в школе, где мать работала буфетчицей. Она убегала от насмешников и все перемены напролет сидела в кухне, где пахло прогорклым жиром, кислым молоком, где мать совала ей украдкой карамельки. Твердокаменные, с намертво присохшими обертками, их клали в чай и в компот – вместо сахара. С сахаром по тем временам было туговато. А с чем не туговато? Колбаса считалась праздничным блюдом, мандарины – экзотикой, которую можно позволить себе лишь во время новогоднего застолья, шоколад – роскошью. Голодать не голодали, тем более что мать работала, как она сама говорила, «при харчах», но и только.
А еще этот вечный холод! Денег на хорошую одежду у них никогда не было, а Север шутить не любит. У матери сохранилась с прежних, лучших времен котиковая шуба, мех уже весь вытерся. И у Ады когда-то была пушистая рыжая шубка, но девочка давно из нее выросла, из шубки сначала сделали безрукавку, потом мать переделала ее на воротник и обшлага для своей шубы. И котика, и рыжую лисичку покупал отец – давно, когда был жив. Аде казалось, что она помнила – у отца были добрые глаза и черная мягкая борода, но не говорила об этом матери, та бы ее высмеяла. Мать обижалась на отца, словно он не погиб на производстве, а бросил их. За отца платили им небольшую пенсию, но мать относила ее на книжку, копила на что-то. Зачем копила, если они так плохо, так безрадостно жили?
– Тебе на свадьбу откладываю, – говорила она Аде, которая по недомыслию начинала хныкать, просить конфет или обновку, и девочка успокаивалась. Дома она садилась за свой столик, брала карандаши и в альбоме рисовала себя – принцессу в белом тюлевом платье, с цветами на голове. Рядом черная машина – «Волга», нет, «Чайка», и кукла на капоте, и разноцветные ленты по ветру! В небе светит улыбающееся солнце и летят птицы, их легче всего рисовать, просто ставь галочки. А жениха она никогда не рисовала, не знала, какие бывают женихи. Да и какая разница, какой он будет?
– Муж тебе и сласти, и красивую одежду купит, – кивала мать.
Но случилось так, что красивая одежда все же появилась в жизни Ады задолго до предполагаемого замужества.
Вот как это вышло: сначала почтальонка принесла какую-то бумажку, которую мать долго читала, хотя там была всего одна строчка написана, удивленно рассматривала, даже и на свет смотрела, чуть не на зуб пробовала. Потом мать взяла с собой Аду и пошла на почту. Была, как всегда, зима. На почте им дали взамен бумажки ящик, весь в каких-то бурых нашлепках. Мать посмотрела изумленно и погнала Аду обратно домой, за санками. Вдвоем они везли тяжеленный ящик домой и болтали, как подружки-ровесницы. Это бывало так редко! Под полозьями скрипел, как накрахмаленный, снег. Мама сказала тогда, что посылку отправила бабушка, папина мама, что она живет далеко, в другой стране. Она когда-то обиделась на мать за то, что Ада носит ее фамилию, а не фамилию своего отца. И вот, после долгих лет нарушила молчание, прислала посылку. Наверное, что-то очень хорошее.
Но радость оказалась недолгой, куцей. Пыхтя, втащили посылку по лестнице – лифт снова не работал. Прямо в прихожей, не раздевшись даже, скинув только на плечи платок, мать стала вскрывать ящик ножовкой, а Ада стояла рядом и гадала: что там может быть? Сто килограмм конфет? Целый магазин игрушек? Шубка, сапожки, розовое платьице, как у вредины Наташки из второго «Б»?