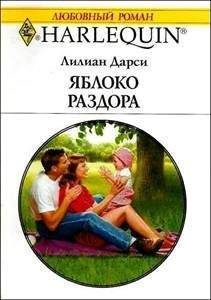Но не успел ветер разнести пепел костров самой короткой ночи, а было уже ясно: нечем будет похвастаться на Мабон, некого заколоть к щедрым пирам Самайна.
После долгого спора с министром торговых дел я отменила на этот год подати, а лордов обязала позаботиться о землях своих и людях своих, чтобы стужа и голод не унесли уже человечьи жизни. Мало кому пришелся такой приказ по нраву.
По древнему обычаю Гвинллед объезжал все провинции, чтобы земля приветствовала своего господина, чтобы король видел, что досталось ему беречь. В иные годы все закончилось бы чередой пиршеств в замках лордов, что ранее склонили колени перед маленьким королем, да десятком выслушанных жалоб селян или мастеровых – показная милость с королевского плеча. Но тогда было не до пиршеств. И жалобы Гвинллед выслушивал у всех, кто к нему приходил, хмурился, сжимал темные, словно обожженные моей кровью губы, и злился бессильно, если помочь не мог.
Он обещал – но только если знал, что сможет исполнить обещанное. Он улыбался и утешал – если словами можно было хоть что-то исправить. А по вечерам спрашивал, сдерживая злые слезы:
– Недобрая королева, разве мало я делаю? Или делаю дурное? Я же вижу сердца их, и нет в них любви ко мне!
– Ты заложил краеугольный камень, а желаешь уже подняться на самую высокую башню. Лишь колдовская любовь возникает по мановению руки, по звучанию голоса, – говорила я, и «такую любовь твоя матушка щедро взращивала» оставалось непроизнесенным, – дивно расцветают такие чары, но и увядают быстро. Вспомни сам, не ты ли жаловался, что придворные о тебе забывают? Настоящие любовь и верность растут долго, иногда лишь к старости можно сжать их плоды, а ты лишь посеял семена благодарности.
Он и раньше неистово жаждал чужой любви, но в последний год эта жажда превратилась в одержимость. Может, потому он все время тянулся ко мне, что лишь меня от его чар защищало холодное железо, и потому от тихого огонька моей приязни было ему теплее, чем от пожара колдовской любви?
После моих укоров Гвинллед вздыхал и прятал жуткий полночный взгляд. Он и сам все понимал, ибо древнее, чуждое знание, что отражалась в младенческих глазах, все еще жило в нем, но юность, яркая, быстрая, живая, заглушала вкрадчивый его шепот.
Он был сыном своей матери и, подобно Элеанор, желал чужого восторга. Он был ребенком, не умеющим ждать, не чувствующим скоротечности времени, не видящим различий между вечностью и годом.
Он был чудовищным порождением добрых соседей и не умел ценить чужую свободную волю.
Не понимал, что ее надо ценить.
И с тех пор к словам своим он всегда подмешивал толику чар.
«Я всего лишь хочу, чтоб они полюбили меня быстрее», – оправдывался он передо мной, и искреннее детское недоумение звенело в его голосе. Я не смогла тогда остановить его, успокоить и объяснить, как дурны его поступки, сколько боли они принесут. Я сдалась и подумала: может, не случится страшного, если любить его будут чуть больше и чуть ярче. Но тогда я уже знала, как губительна чародейская любовь, сколько горя и скорби приносит она, только пустошь и пепел оставляя за собой.
И во всем, что случилось позже, есть и моя вина.
Сколько бы ни сыпал утешениями юный король, сколько б ни приправлял слова свои чарами, а все равно ползли слухи – тихие, ядовитые, – что не потомок Аргейла золотой венец носит, а потому и гневается земля, потому и тянутся за ним несчастья. Говорили, не от королевского сына родила его Элеанор. Говорили, королева-ведьма сжила доброго короля со свету и возвела на престол то ли свое отродье, то ли проклятого подменыша, которому лишь туманные чары придали смутное подобие человека. Говорили, расплата за их правление будет ужасна. Говорили, сама Альбрия отвергает их.
Слухи текли – одинаковые – со всех сторон, и ропот звучал уже и в благополучной столице, и не удавалось верным моим стражам поймать того, кто столь щедро сеет смуту.
В Каэдмор мы вернулись к середине июля, когда густая удушающая жара схлынула, оставив после себя духоту и затянутое серым маревом небо, дразнящее обещанием долгих ливней. Мелкие проблемы сковали меня по рукам и ногам, и я снова оказалась пленницей дворца, но теперь меня удерживал не страх или чужой запрет, а кипы бумаг, прошений и жалоб. Гвинллед быстро заскучал и днями бродил по парку, и лорд Родерик следовал за ним неотступно. Теперь настал черед старого генерала обучать юного короля – обучать тому, что не могла бы дать я. Как держать узду и как держать меч, как смирять буйный нрав коней – и кровавую жажду стали. Как различать, когда скрыть меч в ножнах, а когда пустить его в ход. Как разить, не щадя, и как добивать милосердно.
Но главное, чему лорд Родерик не смог научить Гвинлледа, – как быть верным другим так, чтобы и они хранили верность тебе. И старый генерал и сам не заметил, как юный король чарами опутал армию, заронив в сердца воинов темные семена преданности, мало отличной от одержимости.
Они не выдали его, когда сбегал он ночами в город, тенями скользили следом, оберегая того, кто сам был чудовищем. Они не выдали его, когда на закате он забирался на Северную башню, столь старую, что камни крошились под ногой. Они не выдали его, когда на рассвете он сбегал в порт и долго смотрел, как в безветрии покачиваются скорлупки судов на рейде, как серое море отражает серое небо в плену смертного покоя.
И черные точки далеких кораблей, что шли без ветра, Гвинллед заметил первый. Он прибежал ко мне, раскрасневшийся, так похожий на обычного ребенка, и восторг в его глазах мешался со страхом – и это был первый раз, когда я видела его страх.
– Мне не по себе, когда я на них смотрю, недобрая королева. Что за корабли идут к нам? Что они нам несут?
– Торговцы со всех земель всегда стремились к нам. – Я утешила его, а сердце сжалось, увязывая воедино и дурные слухи, и незваных гостей. – Скоро войдут они в гавань, тогда и увидим, кто и с какими вестями пожаловал.
Но случилось это не скоро: странные корабли, огромные даже на расстоянии, встали на рейд у входа в гавань, не приближаясь, но и не уходя. Словно гончие, выследившие логово жертвы и стерегущие ее, пока не явился охотник.
Долго ждать его не пришлось.
Тем же вечером мне доставили послание от