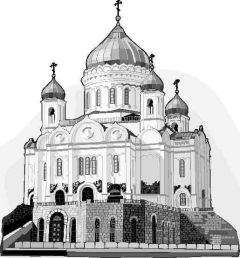Ей уже семнадцать, а жизнь не стоит на месте, идет. Люди умирают в восемьдесят — некоторые и того раньше. В шестьдесят, иногда в сорок… Как глупо. Что, если она не успеет? Вообще никогда не успеет познать, что же такое счастье?…»
Ани, которая все это время слушала молча, но постоянно елозила по кровати, не удержалась и перебила:
— Какой странный мир! Нет, вы представляете себе — скидка на счастье? Это надо же!
Дэйн качнул головой — когда-то он думал о том же. Они счастливчики, что за чудесные моменты жизни не платят, что те — нет-нет, да приходят сами.
— И как мало они живут — эти люди. Это фантастика, да? Социальная фантастика?
— Да.
— Уму непостижимо… — От волнения кулачки Ани-Ра сжали край одеяла. — Всего восемьдесят лет — какая короткая жизнь. А счастье платно. Вот автор выдумал!
— Выдумала.
— А-а-а, она женщина? Надо же было такое придумать.
— Звучит кошмаром, не так ли?
— Точно. Если бы мне было уже семнадцать, а в восемьдесят умирать.
— А то и раньше…
— Да, может, и раньше… Я бы, наверное, рехнулась.
— Там дальше не все так плохо.
— Читайте. Пожалуйста, читайте.
Он улыбнулся.
— «…Она вернулась домой затемно. Поставила у порога стоптанные ботинки, повесила на единственный крючок застиранный плащ и тут же направилась к баночке. Отвинтила крышку, бросила внутрь две серебрушки — монетки тихонько звякнули, ударившись о кучу соплеменниц, — добавила медяки и вновь завинтила крышку. Поставила банку на полку и долго на нее смотрела: сегодня она вновь будет мечтать — представлять, как однажды вытряхнет содержимое копилки, ссыплет его в мешочек и отправится в центральный офис компании. Где сидят одетые в белоснежную форму представители, где всегда пахнет радостью, куда люди приходят одухотворенные, а выходят, сияя так, как, наверное, сияют только ангелы.
Именно поэтому к офису не подойти, именно поэтому по периметру колючая ограда. Чтобы такие, как она, не цеплялись пальцами за сетчатую решетку, не впечатывали в нее носы, не пытались стянуть — „отнюхать“, „отсмотреть“, оттянуть чужого…
Но она, Алина, снова будет мечтать. Этой ночью будет представлять, как идет по центральной, идеально ровной, выложенной кирпичиками аллее, как входит в белоснежное мраморное фойе, как гордо и радостно кивает на предложение о чашечке чае — ведь сегодня она королева! Сегодня она будет просить счастье и сегодня, улыбающиеся люди выдадут ей его. Пусть крошечку, пусть капельку, но выдадут…»
С полчаса Ани слушала молча, изредка хмурилась, кивала самой себе, морщила лоб — видела и переживала все те события, о которых он читал. Еще через десять минут начала клевать носом — ее веки начали склеиваться, наливаться тяжестью. А еще через пять минут Дэйн осторожно поднялся с кресла, погасил ночник и тихонько прикрыл за собой дверь спальни.
Вышел в коридор, какое-то время задумчиво стоял у верхней ступеньки, затем качнул головой — сбросил с себя непонятное чувство — и свистнул Барта.
— Пойдем, друг, прогуляемся, хочется вдохнуть свежего воздуха.
Прибежавший на оклик пес резво завилял хвостом и от радости поставил передние лапы Дэйну на живот.
— Ну-ну, слезь с меня. Пойдем, прогуляемся. Надо.
Эта ночь выдалась необычайно ясной, звездной, теплой.
Дэйн втянул носом густой и насыщенный аромат земли, смешанный с запахом растущих на соседнем дереве ярко-желтых цветков, что всегда распускались в конце лета, ближе к осени — их название он всегда благополучно забывал (не то «Лейперсы», не то, бишь «Леккерсы»…) — и уперся взглядом в притихшую, сонную улицу.
Неслышной тенью носился у стен Барт — чего-то вынюхивал или изредка рыл когтистой пятерней; стоял в гараже новый белый автомобиль, сесть за руль которого владелец так и не попробовал. Уже завтра.
Никак не уходило изнутри странное чувство, что он сам, как и потерявшая память Ани, раздвоился. Одна его часть осталась тем самым — логичным, грубоватым, прагматичным и прямолинейным Эльконто, а вот вторая — неизвестно откуда взявшийся фантом — приняла иную форму и иные черты характера — мягкость, хитрость, гибкость и терпимость. Излишнюю «понимательность».
И это то нервировало, то злило, то просто тревожило.
Он читает ей на ночь книги, следит, чтобы она была одета, обута и накормлена. Ждет, когда она вспомнит тот факт, что всегда желала и все еще желает его убить. Глупость. Полная и абсолютная глупость.
Но что делать? Он ненавидит врать, но врет. Не желает делать этого, но будет продолжать. Потому что из-за этой самой возникшей излишней «понимательности», он сам поместил себя в безвыходное положение, где, раз ты уже встал на определенный путь, продолжай по нему идти.
И единственное, чего Эльконто никак не мог понять, откуда у него этим вечером такое крайне спокойное, благостное и даже умиротворенное настроение?
Откуда?
Мистика.
Еще раз вдохнув запах Лейперсов (Леккерсов?), он тихонько свистнул Барту, а тот аккуратно гавкнул в ответ.
— Домой, говорю! Будешь мне еще гавкать….
На этот раз питомец послушался, подбежал и послушно ткнулся носом в колено — мол, вот он я. Прости.
— Так-то лучше. Пошли уже поспим… А то странный выдался денек. И долгий.
Через пять минут свет в окнах трехэтажного особняка погас.
— А кем вы работаете?
Он знал, что этот вопрос однажды прозвучит, ждал его. Даже, вроде бы, был готов, но почему-то полностью растерялся, когда она задала его.
— Я? Э-э-э… Кхм… Я… Я преподаю боевые искусства.
Так! Соврал, так соврал. Могуче и почти правдоподобно.
Ани ответ понравился, потому что она тут же восхищенно распахнула глаза и застыла на месте:
— Так вот откуда у вас такие бицепсы! И такой торс. И ноги…
И тут же смутилась, поправилась.
— Я имею в виду, вот почему вы такой… мощный.
— Ну, да. А как же иначе? Не хлюпику же тренировать бойцов…
Добавил, и тут же захлопнул рот. Спасибо, не покраснел. Сейчас он доврется почти до правды, до рассказа о полигонах, постоянных тренировках, а оттуда и до «Войны» недолго. И тогда, да здравствуй проснувшаяся память и прощай вкуснейшая яичница на завтрак.
Оказывается, она умела готовить.
Этим утром Дэйн впервые проснулся в собственном доме не в тишине, а под доносившиеся снизу звуки музыки. Кто-то нашел стоящую на подоконнике стереосистему и включил ее. Помимо звуков, это дивное утро привнесло с собой еще два радикальных отличия: наличие пьяняще вкусного запаха еды и отсутствие в комнате Барта, который к этому моменту успевал «исскулиться в плешь», как ласково называл сей процесс Дэйн.