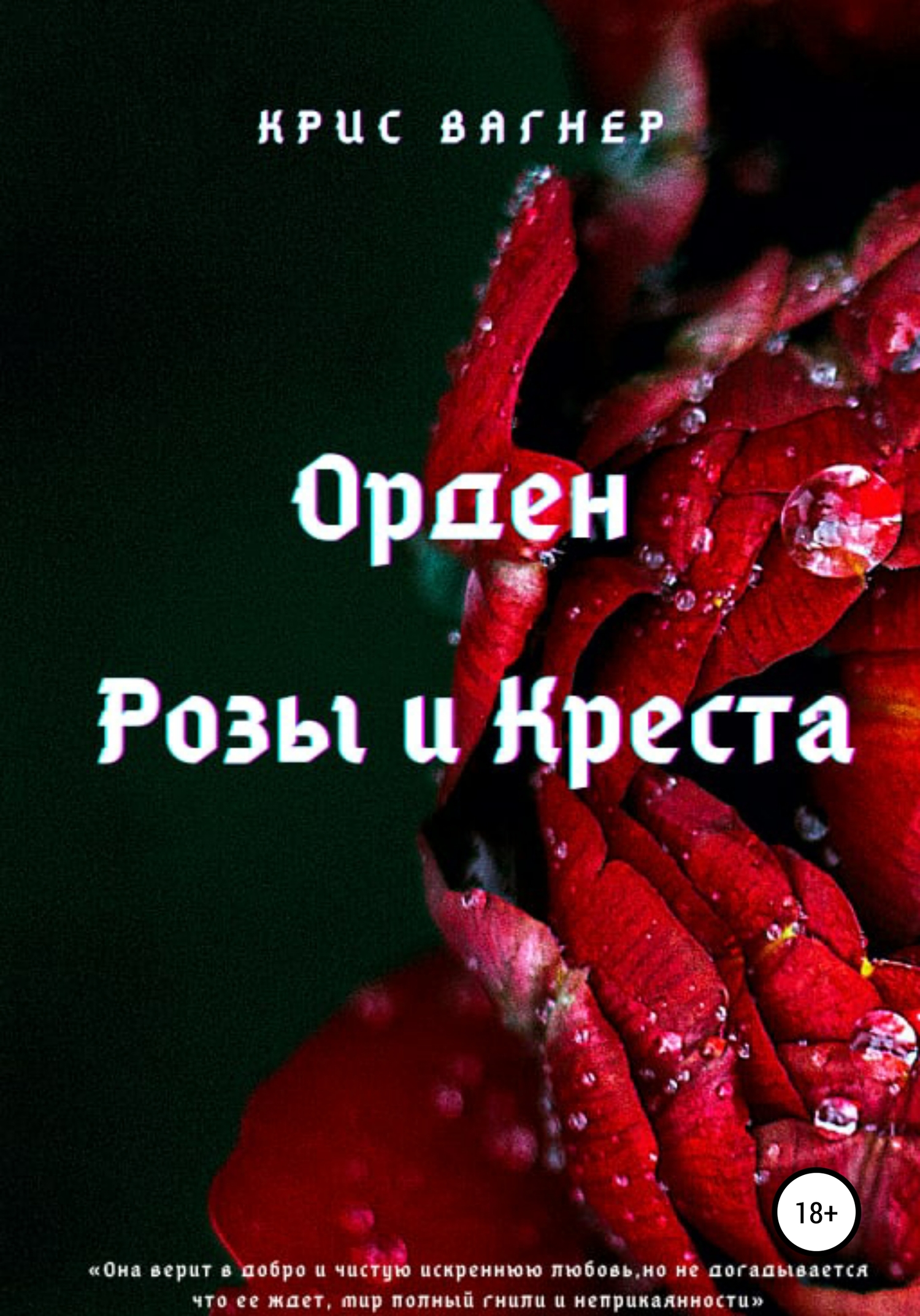узнавать? Еще и на ночь глядя! Неужто и правда об искусстве и творчестве? Явно же и не интересуется,
что лучше использовать — акварель или гуашь, а может, все же и масло?». Не первый же и год живет с ним под одной крышей, должен уже был у- и знать, что «Каждой цели — свое средство», в данном же случае «Для каждого написания — свой способ»: не получится же написать пейзаж за окном и портрет, натюрморт, а и тем более
море — одинаково, так еще и одним же и тем же.
Не получится! Ровно так же, как и
не получалось же у самого блондина сделать младшего брата хоть на грамм тупее в этом вопросе, только чтобы не уткнуться в какой-то момент в
обличающую для всех же по ходу и в этом же конкретном доме, как и квартире, правду, вот только и не для него же самого, опять же, и по понятным же все причинам, ведь правда —
никогда не бывает приятной, хорошей, да и сладкой: правда есть
правда, всегда и во всем, при и для всех же, вся. И в этот же раз она, не изменив себе, была таковой —
по фактам: «Все всё и про всех же уже здесь знали и даже, более того,
понимали и принимали и теперь лишь только подталкивали к этому, в его же случае и этой-
ней, его же самого, не засоряя же лишний раз собой и обзор, не сбивая и не навязывая, как и не навязываясь же, оставляя почаще его же самого наедине же лишь с собой —
его-своими мыслями и словами, решениями и поступками».
Только у- и знали бы они еще сами и все, конечно, основательно и досконально же вначале — кого и с кем, да и стоит ли после всего, не удостоверившись ведь и в окончательной же его собранности и адекватности, проработанности и готовности: ему ведь и своих чертей еще и с тех пор хватило и до сих пор же хватало, чтобы смешивать их еще и с иными, да еще и именно демонами, те же еще были с достаточной, да и достойной же без малого придурью, чтобы, еще и не леча же их, как и не избавляясь же от них самих совсем и насовсем уже, забивать, отпихивать и браться же за иных. Не ровен ведь час, и одна из его внеочередных проходок мимо комнаты Никиты чисто случайно и от нечего же делать закончится ровно же тем, что так хотелось и мнилось в его собственной, больной до одури же голове, где уже и не прокатит «Там терпел — и тут велел», чердачок-то уже давно не свистит, он слетел и одному же богу на пару же уже и с дьяволом лишь известно — сколько этажей вниз еще только предстоит пролететь в этом же бездонном туловище-избушке, следующем же уровне после сумки Гермионы и палатки, так и не взятой же в случае первой на вооружение, но и зачем, когда у большинства же есть карманы и нет коррупции, как и денег же с душами, на лифте же «Сапсан» в одну же сторону по пути «Разум — сердце» и прежде, чем достигнуть же наконец и «Вальхаллы».
Однако же, «Сам пошутил — сам посмеялся». И пусть и вновь же про себя, но и явно же не удержавшись. Как и удержав же в себе затем чуть ли и не истеричный смешок. Поймал же хи-хи. Да. А толку-то? Первый и последний. Он же. И сам. И так же — для себя лишь. А в нужное и время-то? В нудном ли и месте? Нет. А и тем более же еще когда не разрулил до конца момент с ультиматумом, поставленным собой же ранее и не себе, но и собой же все там же нарушенным. Пусть и не совсем, но ведь и докоснулся. И чуть-чуть в данном же и его конкретном случае — как раз таки и считается. Сказал ведь, что не будет. Никак. И что же она сама к нему чуть ли и не приползет, доведя же себя саму и доведясь же. А кто кого и первый по итогу-то вновь довел? Он же. И себя. Но и, как все сказал, без инициатора же вблизи. Хоть где-то и что-то же совпало. Жаль, не он же сам. Или не жаль? Ведь и как бы там ни было и кто бы там ни был, как и как бы и что бы он сам про себя ни считал, ему это нравилось: нравилось доводить и истязать, издеваться над собой, нравилась и она же сама, ну или будет все же точнее сказать — понравилась все же. Сначала и как полностью одетая при нем, почти и буквально, ведь и без синего длинного пуховика и утепленных черных кожаных коротких сапог, но и так же вполне можно было уже и по улице-то ходить, а и точно же наоборот — не сидеть дома. Потом, поймав ее же в щель между неплотно закрытой дверью комнаты Никиты и стеной, переодевающейся, естественно, без него, Никиты, не самого-его, Егора, кто бы знал, а он-то все один и знал, так и чему еще был уже и именно рад, в другую уже и чуть длиннее середины бедра, как и плеч, белую футболку с уже и синей, почти и затерто-застиранной надписью какого-то «бренда» после с синими же завязками коротких черных шорт в крупный белый горошек, надетых на одну лишь нижнюю часть нижнего же черного кружева. После, под одним из двух цветных, ярких и в мелкую же клетку пуховых одеял поверх почти такого же тканевого постельного белья, только уже и в крупную, на кровати, видимой и единственной в пусть и небольшом, но и все же луче лунного света, все-таки пробившегося сквозь прореху меж не до конца задвинутых двустворчатых штор и сторон же кровати, падая ровно посередине ее. А уже и в крайний раз, как вишенкой же на торте, видно, наконец уже и согревшись и даже запарившись, явно же уже и окончательно поменяв полюса как снаружи и в одежде, так внутри и в принципе — над ним, вылезла же буквально и на его же собственных глазах за пару минут, как бабочка из кокона и куколки: начав с правого бока и закинутых поверх покрывала лишь левых двух конечностей со спокойно, но и горизонтально же