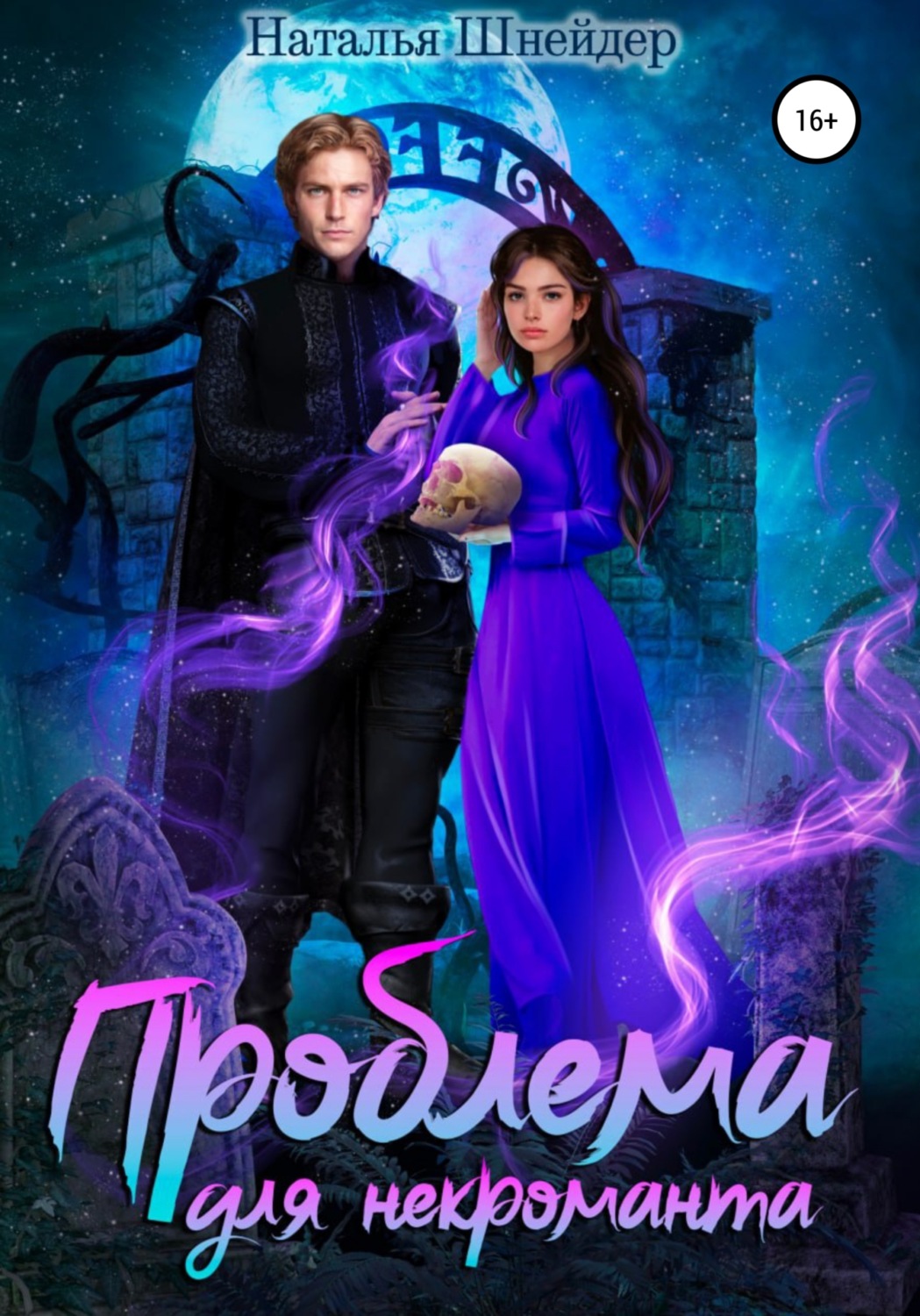чем не беспокоилась?! Ведь отдыхая в его объятьях, я была почти счастлива!
Но если я — лишь забава, тогда он не сказал бы, будто намерен на мне жениться? Я ведь ни о чем не спрашивала… Или ему нужна не я, а корабельный лекарь, так чего бы и не привязать к себе женитьбой? Как будто клятвы, произнесенные в храме, кого-то в самом деле заставили любить и лелеять…
Генри развернулся ко мне — резко, всем телом.
— Сокровище мое, не морочь мне голову. Ты только что сказала, что не хочешь быть моей женой, возможность родить моего ребенка тебя пугает, и ты хочешь уйти с корабля. Кто кого гонит?
На лице его играла улыбка, вот только глаза не улыбались.
— Не бойся, я не мщу женщинам.
Я отвернулась, прижала колени к груди. Надо бы одеться и уйти в свою каюту. Только если я сейчас повернусь к Генри, он заметит, что у меня дрожат губы. Еще немного — и разревусь. Что случилось, ведь только что…
И почему мне хочется плакать?
— Белла?
— Я не знаю! — выпалила я. — Ничего не знаю! Не знаю, хочу ли я уйти с корабля… Отец от меня отказался, ты слышал, но я никогда не была одна… Не знаю, смогу ли?
— Так ты согласилась только потому, что испугалась остаться одна? — Голос Генри звучал ровно. Слишком ровно и слишком спокойно.
— Да нет же! — Я развернулась только для того, чтобы уткнуться взглядом в его спину — непривычно сгорбленную. Он сидел, опираясь локтями на колени, и я не видела его лица. — Я хотела быть с тобой! Я и сейчас хочу, только не знаю… — Я сникла. Как объяснить ему то, чего я сама понять не могла? — Ты прав, я боюсь. Боюсь остаться одна — и боюсь снова оказаться не одна. Знаешь, когда о тебе вроде бы заботятся, а на самом деле кто-то всегда лучше знает, что тебе надо и что ты хочешь. Живешь, как за каменной стеной. — Я снова ткнулась лбом в колени. — А на самом деле — в застенке.
Генри молча притянул меня к себе, устроил на коленях. Я хотела бы обнять его в ответ, но не получалось. Не получалось разжать сцепленные руки, поднять голову.
— Я не знаю, Генри. — И все же в его объятьях стало легче. — Я боюсь свободы. И боюсь не узнать, что такое свобода, а ведь так и будет, если ты приведешь меня к преподобному как-там его… Ты говоришь — может быть ребенок, а я со своей-то жизнью разобраться не могу.
Он тихонько рассмеялся, качнулся, словно баюкая меня.
— Белла-Белла… Ты знаешь, что это вообще-то мужская ария? «Я слишком молод, чтобы взваливать на себя семью и детей».
— Не знаю, Генри. Ничего не знаю. — Я все-таки заставила себя поднять голову, заглянуть ему в лицо. — Знаю только, что, если бы сейчас можно было вернуться назад, в тот день, когда я оказалась на твоем корабле, я бы ничего не изменила. Хотя нет. Тогда, у крюйт-камеры… Сейчас бы я думала не о том, что ты единственный, кто может меня защитить, а о том, как ты мне дорог. Но почему так вышло, я тоже не знаю. И что мне делать. И что будет потом.
Генри снова притянул к себе мою голову, погладил по волосам, спине.
— Ты мне веришь? — шепнула я, коснувшись губами его ключицы.
Он отстранился, приподнял мой подбородок, заглядывая в глаза.
— Верю, сокровище мое. С остальным — разберемся. Ты разберешься. А я попробую понять, как так получается, что мужчина, который всю жизнь бегал от брачных уз не хуже чем от чумы, вдруг понимает, что на меньшее он не согласен.
___________________
[1] В средневековой гимнографии нашего мира ворон мог быть как помощником, так и противником. Перепелка символизировала весну и обновление.
Когда нам удалось снова вспомнить об окружающем мире, за окном сгущались сумерки, а на спинке кровати сидела серебряная малиновка.
— Интересно… — протянул Генри. Подставил руку, но птица не шелохнулась. — Сокровище мое, кажется, это к тебе.
Я озадаченно моргнула. Кто мог бы послать мне вестника? Отец уже сказал все, что хотел.
— Не буду тебе мешать. — Генри поднялся, застегивая штаны, подхватил остальную одежду на локоть.
Он замер на пару мгновений над стоящим в углу медным тазом, в котором возвышался кувшин. Плеснула вода.
— Я подожду тебя в салоне. Этого хватит?
— Да, спасибо. — Я продолжала опасливо таращиться на птицу.
Что-то волшебные вестники в последние дни не приносили мне ничего хорошего. Может, пусть сидит себе? Меньше знаешь — лучше спишь.
— Не беспокойся, — Генри провел ладонью по моим волосам. — Это от кого-то, кто верит тебе… или в тебя, трудно сказать, не зная, что будет в послании.
— Верит?
— Малиновка означает доверие. — Он ободряюще сжал мое плечо прежде, чем закрыть за собой дверь.
Любопытство мешалось в душе со страхом, и я не торопилась тянуться к птице. Вымылась и оделась, неторопливо и тщательно затягивая корсет. Накинула платье, переплела волосы и спрятала их под чепец, и только когда медлить стало уже неприлично — в конце концов, Генри ведь ждал меня в салоне — протянула руку, прикусив губу.
— Привет, сестренка, — сказала птица голосом Роланда, моего среднего брата. — Ну и наворотила ты дел!
Я всхлипнула. Малиновка означает доверие. И Роланд не злился. В самом деле, когда он бывал взбешен, говорил иначе.
— Жаль, что отец запретил с тобой разговаривать, может, с глазу на глаз я бы понял, что ты на грани отчаяния, и попробовал что-то исправить. Хотя кого я обманываю. Отец был взбешен и накрутил нас всех, ничего бы хорошего не вышло из нашего разговора. Мне нужно было время, чтобы остыть, и его-то не вернешь. Дурак я был, только тебе от этого не легче.
Он помолчал, и я словно наяву увидела, как Ланд смущенно ухмыляется — как всегда, когда чувствовал себя виноватым, но не намеревался говорить об этом вслух.
— Жалко, не удалось потолковать по-мужски с Роджерсом.
Интересно, почему «поговорить по-мужски» у мужчин означает «нанести друг другу телесные повреждения»? Или я чего-то не понимаю?
— Этот паскудник… извини