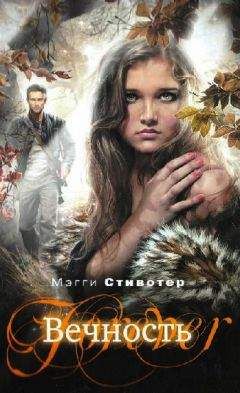Он сказал это как-то очень серьезно, и на миг мне показалось, что он произнес эту фразу с нажимом на «Грейс»; я даже растерялась, не уверенная, как это понять. Но потом он пояснил:
— Мне нравится, как она ведет себя с Сэмом. Мне кажется, я никогда не верил в любовь. Всегда считал, это одна из бородатых уловок Джеймса Бонда, которую он придумал, чтобы затащить в постель очередную красотку.
Несколько минут мы молча лежали бок о бок. За окном начали просыпаться птицы. Дом был объят тишиной: утро выдалось не настолько холодное, чтобы включились обогреватели. Не думать о Коуле, который, хоть и молча, лежал совсем рядом, было очень сложно — слишком хорошо от него пахло и слишком хорошо я помнила, как он целуется. Точно так же хорошо я помнила, как стала свидетельницей поцелуя Сэма и Грейс, а больше всего — как он прижимал ее к себе, когда они целовались. Думаю, когда целовались мы с Коулом, это выглядело не так. При мысли об этом в ушах у меня зашумело, а в груди снова стеснилось от желания и от неуверенности, что это правильно — хотеть Коула. Мне стало стыдно, я почувствовала себя грязной и одновременно счастливой, как будто я уже капитулировала.
— Коул, я устала, — призналась я. Понятия не имею, зачем я это сделала.
Он ничего не ответил. Просто лежал, такой притихший, каким я никогда его не видела.
Раздраженная его молчанием, я попыталась подавить искушение спросить его, слышал он меня или нет.
Тишина была такой глубокой, что я услышала, как его губы разомкнулись перед тем, как он наконец ответил:
— Иногда меня тянет позвонить домой.
Я уже привыкла к тому, что Коул был не в состоянии думать ни о ком другом, кроме себя, любимого, но ниже, по-моему, падать было уже некуда. Секунду назад он перечеркнул мое признание своим.
— Я представляю, — продолжал он, — как позвоню домой и скажу маме, что я не умер. Представляю, как позвоню папе и спрошу, не хочет ли он поболтать о том, что при менингите происходит в человеческом организме на клеточном уровне. Или как позвоню Джереми — он был нашим басистом — и скажу ему, что я жив, но не хочу, чтобы меня разыскивали. Как скажу родителям, что я не умер, но никогда больше не вернусь домой.
Он надолго умолк, и я решила, что он все сказал. Молчание затянулось, даже утренняя дымка уже начала рассеиваться, и в мою воздушную пастельную комнату начали проникать первые краски дня.
Потом он произнес:
— Но при одной только мысли об этом на меня накатывает усталость. Так было перед тем, когда я сбежал. Легкие будто заполнены свинцом. Я, кажется, не могу даже подумать о том, чтобы испытывать к кому-то какие-то чувства. Словно я жажду либо их смерти, либо моей собственной, поскольку мне невыносимо все, что нас связывает. Это еще до того, как я успеваю снять трубку. Усталость просто невозможная, хочется уснуть и никогда не просыпаться. Но теперь я понимаю, что это не из-за них со мной такое творится. Это все из-за меня.
Я ничего не ответила. Я думала о том озарении, которое снизошло на меня в уборной в «Иль помодоро». О желании покончить со всем, почувствовать себя свободной, избавиться от всех желаний. И о том, насколько точно Коул описал усталость, поселившуюся во мне.
— Я — часть того, что ты в себе ненавидишь, — произнес Коул. Это не был вопрос.
Разумеется, он был частью того, что я в себе ненавидела. Все вокруг было частью этого. Он лично был тут ни при чем.
Он сел на постели.
— Я пойду.
Я чувствовала тепло, исходившее от матраса в том месте, где он только что лежал.
— Коул, — спросила я, — как ты думаешь, меня можно полюбить?
Коул неподвижно смотрел перед собой, и на миг у меня промелькнула странная мысль — вот так он выглядел, когда был моложе, и так же будет выглядеть, когда станет старше. Как будто мне удалось украдкой подглядеть его будущее. Сердце защемило.
— Почему нет, — сказал он. — Только ты ведь не подпустишь никого к себе близко.
Я закрыла глаза и сглотнула.
— В моем понимании не бороться и сдаться — одно и то же.
Веки у меня были крепко зажмурены, но из левого глаза все равно выкатилась жгучая слезинка. Как же я была зла, что ей удалось сбежать. Как же я была зла.
Матрас подо мной накренился: Коул придвинулся ближе. Я скорее почувствовала, чем увидела, как он склонился ко мне. Его дыхание, теплое и размеренное, коснулось моей щеки. Второй раз. Третий. Четвертый. Не знаю, чего мне хотелось. Потом он перестал дышать, а еще через миг его губы коснулись моих.
Этот поцелуй не имел ничего общего с нашими прежними поцелуями — жадными, нетерпеливыми, отчаянными. Он не имел ничего общего вообще ни с одним поцелуем в моей жизни. Он был таким невесомым, что казался скорее воспоминанием о поцелуе, таким бережным, что походил скорее на мимолетное касание чьих-то пальцев. Мои губы дрогнули и разомкнулись; это был поцелуй-шепот, а не поцелуй-крик. Коул коснулся моей щеки, большим пальцем провел по нежной коже под челюстью. Это прикосновение не говорило: я хочу большего. Оно говорило: я хочу именно этого.
Все происходило в абсолютной тишине. По-моему, мы оба даже не дышали.
Коул медленно отстранился. Я открыла глаза. Его лицо было непроницаемым, как всегда, когда происходило что-то для него важное.
— Вот так я целовал бы тебя, если бы любил.
Он поднялся, совсем не похожий на звезду, подобрал ключи от машины — они вывалились у него из кармана. Вышел и закрыл за собой дверь, не глядя на меня.
В доме было так тихо, что я слышала, как он поднимается по лестнице, сначала медленно и нерешительно, а потом — бегом.
Я прижала ладонь к тому месту на шее, которого касались пальцы Коула, и закрыла глаза. Не хотелось ни бороться, ни сдаться. Никогда не думала о существовании еще и третьей возможности, а если бы и додумалась до этого, нипочем не догадалась бы, что она как-то связана с Коулом.
С моих губ, которые только что целовал Коул, сорвался шумный протяжный вздох. Потом я уселась на постели и достала кредитную карту.
Наутро мне не особенно хотелось идти на работу, поскольку надвигался конец света, но выдумать более-менее убедительный предлог для Кэрин не удалось, поэтому я вышел из дома и поехал в Мерси-Фоллз. Кроме того, слышать, как Грейс в теле волчицы дерет стены нижней ванной, было жутко, так что легче было уехать, хотя я и упрекал себя в малодушии. Если я не был свидетелем ее паники, это еще не значило, что она не испытывала ее в мое отсутствие.
День выдался погожий, впервые за всю неделю ничто не предвещало дождя. Небо было сказочное, ярко-голубое, каким оно бывает только в первые летние месяцы, и листва на деревьях отливала всеми оттенками зелени — от ядовитых кислотных тонов до густых, темных, практически не отличимых от черного. Вместо того чтобы, как обычно, припарковаться за магазином, я поставил машину на Мейн-стрит, достаточно далеко от центра города, потому что не хотел платить за парковку. Впрочем, в Мерси-Фоллз до центра отовсюду рукой подать. Куртку я оставил на переднем сиденье, сунул руки в карманы и зашагал в магазин.