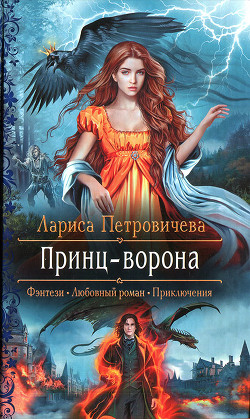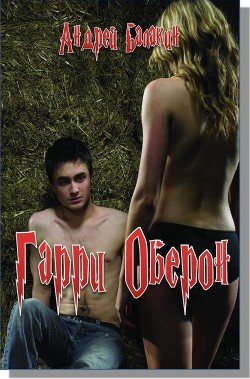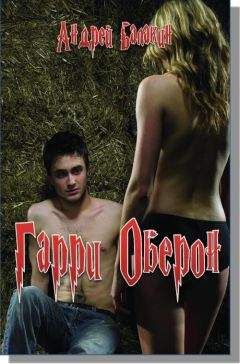— Я, Базиль, кто ж еще? Жив-здоров твоими молитвами, — широко улыбнулся Оберон. Базиль фыркнул, но открывать дверь и приглашать гостей не спешил.
— И какого же лешего тебе тут понадобилось? — полюбопытствовал он.
Оберон мигом смахнул с себя веселый и приветливый вид и хмуро сказал:
— Есть работа. Чем быстрее ее сделаешь, тем быстрее получишь… — и он вынул из кармана маленький желтоватый алмаз и продемонстрировал Базилю. Глазки артефактора наполнил энергичный блеск, тот высунул из дверей руку и быстрым движением сцапал камень и принялся его рассматривать и обнюхивать.
— Академический? — поинтересовался он. Оберон кивнул.
— Даже здесь все уже знают… — вздохнул он. Базиль снова издал презрительное фырканье.
— Везде знают, — сообщил он. — Шило вот такущее, с медвежью ногу, а вы его решили в кисете спрятать? По всем артефактам волна прошла, а там уж дело хозяйское выяснить, с какой стороны она взялась и чем была направлена, — Базиль довольно спрятал камень в карман, бросил быстрый взгляд в сторону Элизы и поинтересовался: — Так чего тебе надо-то?
Оберон вынул аккуратно сложенный лист бумаги, махнул им, и Элиза увидела какую-то схему с множеством стрелок и формул, похожих на химические.
— Сработает? — спросил Оберон. Базиль таким же проворным движением выхватил листок и приблизил его к лицу так, словно хотел облизать все буквы. Элизе показалось, что он даже принюхивается.
— Так, так, мда… — пробормотал Базиль и, приподняв очки на лоб, осведомился: — Это кто намалевал? Ты?
— Я, — угрюмо кивнул Оберон, и Базиль покачал головой.
— Рехнуться можно. Как ты до такого додумался? Пил, что ли, неделю? Обычно от пития такие мысли приходят.
— Нужда заставила, — сказал Оберон. Элиза почти слышала, как в голове Базиля проворными мышами скачут мысли: это же сколько можно получить, это же теперь никакие легавые нас не выследят, но надо со своим интересом… Ей сделалось противно.
Артефактор чем-то напоминал Гнюка — только крыс теперь казался Элизе намного приличнее.
— Кревашно, братко, — осклабился Базиль и отступил в дом. — Покорпачу, выдам к ночи.
В ту же минуту дверь захлопнулась так громко, что Элиза вздрогнула. Оберон ошарашенно покачал головой.
— Что он сказал? — спросила Элиза. Оберон выругался, пнул ни в чем не повинную дверь и ответил:
— Что подумает, поработает и вечером выдаст готовые артефакты.
Они прошли к кривой скамейке у забора, сели, и Элиза заметила:
— Какой-то он негостеприимный.
Оберон усмехнулся.
— Да, я тоже надеялся на чашку кофе с булочкой, — он провел ладонями по лицу и заметил: — Ты какая-то странная. Как будто постоянно к чему-то прислушиваешься.
Элиза вдруг поймала себя на том, что улыбается, наивно и растерянно, совершенно детской улыбкой.
— Да, — кивнула она. — Мне кажется, случилось кое-что очень важное…
Элиза не договорила; Оберон вскинул голову и, прикрыв глаза, потянул носом воздух, словно где-то что-то горело.
— Девочка, — уверенно сказал он. — Еще одна рыжая лисичка. Но она устроит нам веселье! Будет такая же красивая и добрая, как ты… и такая же упрямая и дикая, как я.
— Ты не дикий, — промолвила Элиза, не понимая до конца, о чем он говорит, и в то же время чувствуя невероятную, сокрушающую правоту.
Девочка. Рыжая лисичка. Та, чья звезда сегодня вспыхнула и зазвучала в общем хоре мира. Та, которая бежала к Элизе через лунную ночь — и Элиза ждала ее, раскинув руки.
«Я беременна? — удивленно подумала Элиза и тотчас же сказала себе: — Да. Беременна. Почему бы и нет?»
— Еще какой дикий! — рассмеялся Оберон. — В нашем поселке не было такого забора, на который я бы не залез. И не было собаки, на которой бы я не покатался. А пробраться на праздник и сколоть дамские платья булавками? О, это я любил, умел, практиковал, — его улыбка стала еще шире. — Дамы в разные стороны, а ткань рвалась. И все хором кричали: ох уж этот негодный мальчишка Ренар! И призывали моего отца задать мне хорошую трепку, чтобы сидеть не мог неделю.
— Я… — прошептала Элиза и накрыла живот ладонью, словно что-то могло ранить или обидеть ее звездочку. Оберон снова рассмеялся, мягко обнял ее за плечи.
— Тебя это так удивляет? — спросил он. — Знаешь, когда люди любят друг друга, то у них обязательно появляются дети. Такие вот беспокойные и озорные рыжие лисички. А потом еще и рыжие лисы, я всегда хотел большую семью. Мне было скучно без братьев и сестер. Вот тогда-то академия будет под ударом! Мои дети никому не дадут покоя, это точно. Будут бегать по коридорам и мазать полы той помадой, которой Анри укладывает волосы. А потом смеяться над тем, как студенты падают.
Элиза тоже рассмеялась и услышала, как где-то далеко-далеко над горами, поросшими лесом, над ручьем, над кленовыми листьями рассыпается тихий звон.
— Ты волнуешься, — сказала она, и Оберон кивнул.
— Волнуюсь. И всегда начинаю вот так болтать, как дурак, когда волнуюсь по-настоящему. А летом мы привезем ее к твоему деду. Он будет рад.
«Летом. К деду», — повторила Элиза, и сквозь веру в будущее вдруг пробился страх. Она вспомнила, куда и к кому должна прийти, и вдруг у нее мелькнула наивная мысль: а что, если спрятаться? Сменить имя, уехать — да хоть в другую страну, и жить там. Она думала о том, каким станет ее будущее, и сейчас оно пульсировало под ее ладонью, светилось яркой лисьей звездой.
«Ради нее, — подумала Элиза. — Ради нее я не имею права отступать. Эдвард ведь не отступится, он будет искать меня, а жить в постоянном страхе за себя, за Оберона, за наших детей… Нет. Это будет предательством».
Она должна была закончить историю своей матери, бабушки и отца. Вернуть честное имя генералу Леклер. И потом жить так, как решит сама, а не так, как ее заставят охотники.
— Да, — ответила Элиза. — Он будет рад.
И сжала руку Оберона так, словно она могла удержать ее от падения в пропасть.
Немолодой художник, щегольски одетый по последней столичной моде, сел в вагон первого класса поздним вечером. Мальчишка-помощник, который тащил большой саквояж, сумку с красками и несколько тубусов с холстами, несколько раз налетел на двери и едва не свалил лесенку — проводник, который проверял билеты, даже сердито сказал ему:
— Ты хотя бы смотрел, куда идешь! Бессовестный!
Художник презрительно покосился в сторону мальчика и заметил:
— Исключительный лентяй! Скорее, Бруно! Мне нужны мои капли!
— Иду, м’лорд! — охотно откликнулся мальчик и зацепил саквояжем даму, которая шла к соседнему купе. Та ахнула, испуганно оглядела платье на предмет прорех и обиженно заметила:
— Следите за своим помощником, милорд! Это платье от самого Шельбетта! Я отдала три тысячи крон не за то, чтобы его рвали!
Художник приподнял аккуратную шляпу, обнажив лысину в окружении редких рыжеватых волос, и почтительно произнес:
— Прошу прощения, миледи. Мальчик дурачок, я уж держу его при себе из уважения к его покойным родителям. Если ваша душа так же прекрасна, как ваше лицо, то вы будете к нему снисходительны.
Дама зарозовела прекрасным лицом, потом всмотрелась и кокетливо спросила:
— Ах, вы ведь Маттео Аруни? Великий живописец?
Художник снова приподнял шляпу.
— Несчастный Маттео Абруни, вы хотите сказать, — ответил он. — Я надеялся, что в этих краях меня посетит вдохновение, но увы! Кислые ягоды, такое же кислое вино… надеюсь, в столице все будет намного лучше.
— О, я тоже надеюсь! — воскликнула дама. — Его величество Эдвард организует осенний бал!
Художник махнул рукой.
— Меня более интересуют интерьеры дворца, с точки зрения живописи. Приятного путешествия, миледи! — и уже мальчику, который возился в купе: — Бруно! Невыносимый мальчишка! Где капли!
— Несу, м’лорд! Несу!
За полчаса до того, как художник и его нагруженный вещами спутник появились на перроне, Базиль вышел из дома и протянул Оберону две серебряные пластинки, исчерченные рунами. Весь его потрясенный вид так и кричал о том, что Базиль только что совершил нечто невероятное — и уже придумал, как поставить это себе на службу.