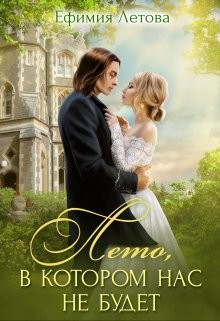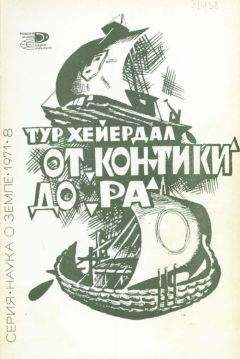— Где? — мать дёрнула плечами.
— На четвёртом этаже. В нашем доме.
— Кто?
— Да, я и спрашиваю — кто?
— Никто не живёт, что за глупости! — ещё более высокомерно, чем обычно, произнесла мать. Высокомерной она не была, но нередко такой казалась.
— Но…
— Прекрати этот допрос, Хортенс. Хочешь, съездим к бабушке сегодня? Ты можешь остаться там до конца недели. Или до конца месяца.
— Не хочу, — сказала я резче, чем надо, неизвестно откуда набираясь смелости. — Я уже два лета жила у бабушки и хочу теперь жить дома. Я говорю о мальчике, который живёт на четвёртом этаже.
— Ах, о том мальчике… Да, но, милая, он там не живёт. Просто… просто приезжал погостить. У него непростая семейная ситуация, его родители — давние знакомые папы, поэтому… Иногда, может быть, он будет гостить у нас, но это временно, не переживай. Он не потревожит тебя, а если что… Просто скажи мне, хорошо? Я всё устрою.
Очевидно, мама уже взяла себя в руки, а это значит, что добиться правды будет не так уж просто.
— Почему вы мне раньше не сказали?
— Но о чём, милая? Это не имеет к тебе совершенно никакого отношения. У вас нет ничего общего, этот мальчик, он… он совершенно из другой среды. Его родители — простые люди, вам всё равно не о чем было бы разговаривать, к тому же он старше тебя и…
— Но если он уже здесь живёт, почему всё время сидит наверху, как пленник?
— Не живёт, а только гостит, «пленник», ну и придёт же тебе в голову, дорогая! — мать улыбалась, но это была нервная и слишком напряжённая улыбка. — Как ты себе это всё представляешь, он недостаточно воспитан, чтобы вот так, вместе со всеми… К тому же, ему нравится одиночество. Он сам так захотел, очень похвально с его стороны.
Захотел — запертый на ключ?
— И он не пойдёт в школу или что-то такое? — продолжала расспрашивать я, уже понимая, что мама будет изворачиваться до последнего, а после просто прервёт разговор и сбежит.
— Он… нездоров. Да. Он болен, слаб, и потому заниматься в школе он не может, и потому ему нужен покой и отдых.
Нездоров, и поэтому запросто спускается по стене с четвёртого этажа? И поднимается обратно?
— Тогда почему не отвести его к целителю? Чем он болен?
— Хортенс, ты отлично знаешь, что целители лечат только таких, как мы, наделённых даром благого чаровства. А простых людей лечат лекари, и к сожалению, лекарская медицина слишком несовершенна. Твоё любопытство и эти расспросы неуместны. Собирайся. Мы едем к бабушке, она очень соскучилась по тебе.
Так или иначе, лимит неприятных вопросов на сегодня был исчерпан, оставалось только понять, почему они неприятные и кому задать остальные.
Да и стоит ли их задавать.
* * *
Коссет оказалась более крепком орешком, разгрызть который мне в то лето так и не удалось. Отвечать на мои расспросы она отказалась более категорично, чем мама, а когда я спросила, как зовут «временного гостя» и вовсе сердито хлопнула дверью. Более того — к четвёртому этажу меня не подпускали, незаметно, осторожно отвлекая, ненавязчиво и неназойливо опекая. Когда я просыпалась, Коссет уже топталась у двери, делая вид, что протирает пол или с дверную ручку, или просто случайно проходила мимо. После завтрака отец или мама, улыбаясь, точно фарфоровые куклы, начинали, перебивая друг друга, предлагать мне какие-то нелепые занятия — театры, рукодельные салоны, ярмарки, точно я была капризной пятилеткой, нуждающейся в дюжине нянек. Бабушка, самостоятельная светская малье, выглядящая едва ли не старшей сестрой матери, стала отчаянно хворать и скучать, слуги буквально несли дозор на лестнице, даже повариха постоянно что-то забывала и сновала туда-сюда по десять раз на дню. А в саду появился постоянный садовник — ранее отец нанимал приглашённого работника несколько раз в год, но теперь невысокий, коренастый мужичок скитался вокруг нашего сада, с важным видом потрясая то лопатой, то граблями. Стоило мне встать напротив глухо закрытого того-самого-окна, как он подходил, крякал что-то в бороду и принимался заваливать меня сведениями о садовых и лесных растениях, так, что приходилось позорно ретироваться, дабы не быть этими сведениями раздавленной. И вроде бы моя жизнь была совершенно прежней, даже более насыщенной, чем раньше, и всё-таки я чувствовала немыслимую театральность окружающего мира и не знала, куда от него сбежать.
А месяц спустя всё это неожиданно кончилось — проснувшись утром, я почувствовала окружающую меня тишину так отчётливо, будто её можно было потрогать. Никто не бродил по лестнице, садовник взял выходной, и отец с матерью сказали, что я уже совсем взрослая и смогу что-нибудь придумать, а им, мол, надо в город… Никем не контролируемая, свободная от уже привычного надзора, я пошла на четвёртый этаж, чувствуя, как всё тяжелее даётся мне каждая следующая ступенька. Остановилась — при свете дня всё здесь казалось совершенно не страшным, можно даже сказать — обыденным.
Дверь была заперта, и ключа в замочной скважине не наблюдалось, ни снаружи, ни изнутри — это я могла сказать совершенно точно, потому что тут же прильнула к этой скважине глазом. Толком ничего не увидела, но тут же поняла, что она пуста.
Ушел! Он ушёл, тощий противный глист! Они его выгнали, как… как я хотела. Именно этого я же и хотела, верно?
* * *
Вечером в свой последний день перед возвращением в школу я бесцельно бродила по саду. Наткнулась на яблочного червяка — его зелёное тельце было самого обычного размера — и стала думать, как же так можно на него повоздействовать, чтобы он вырос? Моего огненного чаровства было явно недостаточно для такого простенького, казалось бы, фокуса. В бессильной досаде я швырнула червяка за забор. Мерзкий хамский глист отправился туда, куда ему и дорога. Наверняка теперь сожалеет, что ему отказали от такого благородного и хорошего дома. А всё, поздно!
…что-то ткнуло меня в плечо, не больно, но чувствительно, и я резко дёрнулась, подняла глаза на закрытое то-самое-окно. Створка слегка дёрнулось, но вообще-то это могло просто мне показаться, в конце концов, был уже вечер… «Что-то» оказалось комком бумаги, тщательно смятой в почти идеально круглый комочек. Воровато оглядевшись, я сунула бумажный комок в карман и прошла в свою комнату. Прикрыв дверь и для надёжности прижав её спиной, принялась торопливо разворачивать бумагу.
Послание было кратким — буквы в виде изогнувшихся яблочных червяков с забавно вытаращенными глазами гласили:
«Удачной учёбы, Хортенс! Кстати, меня зовут Эймери»
— Придурок! — вслух сказала я. — Нет, ну какой же… Идиот!
Моё воспитание ограничивалось самыми простыми ругательствами. По правде сказать, в лексиконе благовоспитанной тринадцатилетней малье не должно было быть даже их.
Я решительно смяла лист и сунула его в карман. Потом достала и переложила в сумку. Завтра выброшу. Непременно. А лучше сожгу. Я приказала свечам погаснуть, разделась и легла спать, думая о том, как я вернусь домой на следующее лето и что я скажу этому противному тощему мальчишке.
…надеюсь, его здесь уже не будет следующим летом, конечно же.
Глава 4. Новенькие в Джаксвилле
Одна тысяча пятьсот второй год
В Джаксвилле всегда было очень тихо.
Разговаривали там редко, смеялись и того реже, слёзы закусывали кулаком, за крик наказывали молча, быстро и больно, за попытку воспользоваться даром сажали в «ти′хоньку» — тёмную пустую комнату и не кормили вовсе, пока провинившийся не становился шёлковым. Вообще, голодом там наказывали часто, а есть хотелось всегда, особенно самым маленьким питомцам Джаксвилля. Это заведение было предназначено для детей от шести до двенадцати лет, мальчиков и девочек вперемешку.
День, когда Четвёртая и Двадцать вторая оказались в Джаксвилле, был типичным осенним деньком в северной части Айваны, пасмурным, сырым и каким-то разбухшим, точно кусок чёрствого хлеба, упавший в лужу. Двух новеньких шестилетних девочек привезли аккурат к обеду, посадили на скамейку перед главным корпусом, строго приказали ждать, не вставать и никуда не уходить.