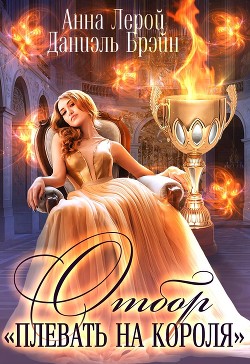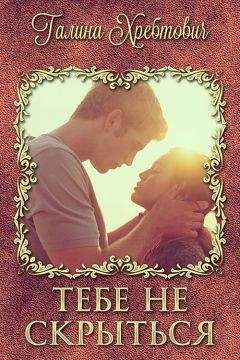если она, конечно, не померла старой девой. — Скажешь, нет? Тогда кто это сделал?
— Где он был?
Глаза Марго зло заискрились, ответила она бессвязно, но исчерпывающе.
— На улице, за старым каретником. Теперь сама ходи за поротым мужем, клятая.
Я знала, о чем она говорит. Маленький двор — некогда конный, до сих пор у стены стоял развалившийся экипаж, похожий на инсталляцию, весь в крупицах соли, как коралл. Моего мужа отнесли в дальнее крыло — все же каторжнику нечего делать среди людей вольных, так здесь понимали. Я толкнула одну дверь, другую, третью — только мрак в окне, а за четвертой дверью, в выстуженной комнате, на кровати кто-то лежал и рядом горела свечка.
Через муть стекла была ясно видна старая колымага. Может, ее и сделали колыбелью, но кто? Я зашла, притворив за собой дверь, сделала шаг и застыла, поняв, что мой муж мне уже ничего никогда не скажет.
Из спины его торчал тот самый нож, который он любезно вручил мне для самозащиты.
Я подошла, машинально отметив, что здесь так холодно потому, что створка окна прилегает неплотно… Полковник Дитрих еще не остыл, и мне лучше было поскорей сообщить о его смерти, пока в ней не обвинили меня.
Я вышла, пытаясь прийти в себя, стараясь прогнать множество лишних мыслей, но пока я дошла до стражи, я поняла — я знаю, кто виновен и в покушении на жизнь малыша, и в убийстве.
— Чего опять? — огрызнулся стражник, и я указала недрогнувшей рукой на коридор.
— Полковника Дитриха убили. Ножом.
Секунда молчания, и стражники все до единого сорвались с места. Они толпой пронеслись мимо меня, едва не затоптав, и я подумала — это не стремление расследовать и покарать, с таким же рвением мои бывшие современники бежали на место трагедии, и у них были в руках смартфоны с включенными камерами.
Если за мной придут — за мной придут. Мне тоже некуда деваться с этого острова. Не спеша, словно шла за катафалком, я добрела до своей комнаты. Теодора все еще кормила младенца, Марго исчезла, старуха обстоятельно вытирала руки, пахло сталлой, ребенок сосал грудь с такой яростью, будто матери мстил, а старуха, бросив на меня суровый взгляд, приказала:
— Посиди-ка тут, пока она опять что не выкинула, — и ушла, забрав нечистые детские тряпки. Я села, Теодора не поднимала на меня глаз. Старухи тоже ее подозревали?.. Им, старым ведьмам, было виднее, они не один раз, наверное, наблюдали, как женщина крадучись бежит к погосту-болоту. Текло время и молоко, чавкал ребенок, и когда он наелся, я взяла его, завернула в шкуру и положила на свою кровать.
— Зачем? — Теодора не ответила, я повторила вопрос, догадываясь, впрочем, что она уже ничего и не помнит. Постнатальная депрессия — все возможно, тем более здесь, на каторге, где кому угодно недолго тронуться. — Почему ты хотела его убить?
— Так, Зейдлиц… — тускло произнесла Теодора и легла на спину, не прикрыв обнаженную, истекающую молоком грудь. — Он говорил, что мы отсюда уедем. Но ничего, совсем ничего…
Она больна, ее реальность и моя различаются слишком сильно, ни одно мое слово не дойдет до поврежденного рассудка, все, что я могу ей сказать, бесполезно, все, что я могу предпринять — предотвратить. Например, забрать у нее ребенка, приносить его только кормить.
— И что я с тобой буду делать? — пробормотала я, опускаясь на кровать рядом с малышом. — Бедный, бедный, ты никому не нужен. Ты лишний. Такой же, как все мы здесь, но ты не виноват в том, что так получилось… Я, наверное, тоже, но насчет тебя сомнений никаких нет…
Я успокаивала не малыша, а себя, я подлезла рукой под шкуру и коснулась теплой ладошки — ребенок не замерз, его спас мой конвертик, не зря я старалась… Теодора всхлипывала, отвернувшись к стене, и я думала, что слезы, может, помогут, но надежды на это, как и на все остальное, не было никакой.
Скрипнула дверь, вошла старуха. Парашку от прочих я отличала — тяжелые шаркающие шаги.
— Ступай к коменданту, — велела она, и я осознала — вот и все. Моя очередь ложиться под розги, на этот раз без всякой пощады. Обратно я уже не вернусь.
— Позаботься о нем, — попросила я. — Не оставляйте малыша наедине с его матерью, никогда. Обещаешь?
— Да что я, дурная совсем? — оскорбилась Парашка. — Вона, какой конвертик-то у него, хе-хе… Иди, иди!
Что значили ее слова? Значения не имело. Я шла по коридору каторжной крепости в последний раз, вспоминая, как в известной книге по зеленому полу уходили к месту казни приговоренные, и каждый шаг их был длиною в целую жизнь.
Я постояла перед дверью в кабинет — не тот, в котором я устроила катастрофу, в другой, куда никто, кроме нескольких стражников, доступа не имел. Мне мерещилось, что где-то ровно стучат часы, и каждая секунда казалась вечностью. По щекам покатились слезы — не хочется умирать, но мне припомнят и пожары, и угрозы, и ратаксов, и роды, и едва не погибшего ребенка лишь потому, что одного обвинения в убийстве может быть недостаточно. Что для меня, в конце концов, это изменит?
Я толкнула дверь и вошла без спроса. Комендант сидел за столом, перед ним лежали бумаги и мой детский конвертик, в подсвечнике на краю стола ровно горели три свечи. При виде меня комендант поднялся и переставил подсвечник подальше от себя и своих бумаг, на узкий подоконник, где полыхнуть нечему. Никаких часов в кабинете не было, но психика — штука гибкая, она выбирает, какую иллюзию реальности ей создать: теперь я словно слышала далекий, протяжный, призывный стон.
— Я его не убивала, — тихо произнесла я. Может, комендант мне поверит. Доказательств нет, но кому они здесь важны, кто смотрел на доказательства в это время, обвинения и казни следовали как придется — это не признак слабости, а признак несовершенства. Системы, мира, науки, а тремя веками ранее меня бы отправили на костер.
Комендант хмыкнул, повернулся ко мне, скрестил на груди руки. Он, вероятно, был на острове единственным человеком, кто меня не боялся. Он кивнул, и уголок его губ нервно дернулся.
— Вы здесь не за этим, — он указал на детский конверт. — Я предлагаю вам сделку,