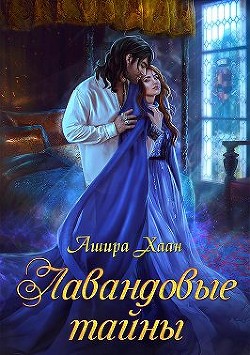— Сюда, быстрее! — он сворачивает к узкой лестнице, которой пользуется только прислуга. В этом крыле замка никто не живет, поэтому и лестница пуста — по ней можно очень быстро спуститься на задний двор. Тимира цепляется ладонями за шершавые стены, обдирая кожу, грубые ступени рвут шелк ее туфель, и она сбрасывает их, чтобы бежать босиком.
Во дворе никого нет, поэтому маленький отряд пересекает его, направляясь к малой конюшне.
— Карета движется слишком медленно, — поясняет Тойво. — Поэтому тебе придется ехать с кем-нибудь верхом. Я забрал двух самых быстрых…
— Нет, — говорит Тимира внезапно. Ее глаза из тусклых вновь становятся сверкающими, а голос — твердым. — Я не поеду верхом. Это опасно для ребенка.
— Мне важнее, чтобы ты была в безопасности, — возражает Тойво.
— А мне ребенок.
— Ты готова ради него умереть?
— Да!
— Проклятье!
Тойво думает очень-очень быстро. Всего несколько мгновений он стоит неподвижно, закрыв ладонью лицо, потом встряхивается и командует охранникам:
— Закладывайте самую маленькую карету!
Он направляется в конюшни за новой парой лошадей — императорские скакуны умеют летать как ветер, но не умеют ходить в упряжи. Тойво знает свою жену — подготовить карету куда быстрее, чем переубедить ее, особенно сейчас, когда она волнуется не о себе.
Один из охранников заглядывает за угол конюшни и присвистывает:
— Смотрите, тут уже есть готовая карета!
— С императорским гербом, — замечает второй. — Нельзя же…
— Можно! — решает Тойво. — Быстро в нее!
Он поворачивается к Тимире, обнимает ее за плечи и позволяет себе один очень долгий взгляд в глаза.
— Прощай, — говорит он. — Прощай и… Нет. Просто прощай.
Она дотрагивается кончиками пальцев до его щеки и впервые за много недель на ее лице появляется нежная улыбка, которую он так любил целовать по утрам.
— Прощай, — говорит Тимира и сама целует его — быстро, в уголок губ.
— Беги! — говорит он, подталкивая ее к карете. — Если все будет хорошо, я пришлю тебе весточку.
Она успевает открыть дверцу кареты и поставить ногу на приступку, когда громом с ясного неба раздается скрипучий голос:
— Тойво, а ты не задумался, откуда у малой конюшни запряженная карета с гербом?
Глава 44
Когда Петры нет, Иржи почти не встает.
Не ест, не выходит наружу, не смотрит в небо.
Только иногда спускается к отшельнику в пропахший сыростью подвал и там сидит рядом с ним — безмолвно, потому что до сих пор не знает его языка.
Ему кажется, что без нее легче.
Не нужно отвечать на вопросы, не нужно готовить опротивевшую еду, не нужно тратить силы, чтобы сопротивляться реакции своего тела на женское тело рядом.
Раздражение от присутствия Петры настолько сильно, что Иржи иногда подумывает забрать коня и однажды ночью скрыться в глубинах пустыни.
Но это совершенно бесполезный план — так он убьет и себя, и ее.
И невыполнимый. Ночи Петра проводит рядом с ним и почувствует, если он попробует уйти.
И все же, если она долго не возвращается, он начинает волноваться. Тревога ознобом прошивает тело, не дает покоя душе. Словно что-то плохое случилось, а он об этом еще не знает, но уже чувствует.
Лишь когда Иржи слышит под утро приглушенный песком топот копыт, когда выходит навстречу Петре, едва дожидаясь, пока она распряжет коня, разденется сама, выпьет воды и выгрузит припасы, когда она наконец подробно пересказывает все, что видела и слышала в деревне — не меньше трех раз! — лишь тогда беспокойство стихает.
Ненадолго.
Спустя несколько дней оно снова начинает нарастать, и он гонит Петру обратно, наплевав на то, что ночные эти поездки — не так уж и легки для женщины, которая выучилась езде верхом лишь три года назад.
Но к ней уже привыкли в ближайшем селении, слепили из ее скудных рассказов о себе и собственных фантазий какую-то удобоваримую легенду и сами поверили ей. Теперь Петра там практически своя — чужачка, конечно, но привычная чужачка, неподозрительная.
Оттого еще опаснее появляться там Иржи — на ее фоне он покажется угрозой.
В этот раз Петра задерживается на двое лишних суток. И две последних ночи Иржи проводит за пределами башни, сидя на вершине одного из барханов и глядя на узкую полоску зари далеко на горизонте. Еще на звезды. Но звезды не успокаивают его, не утешают, как утешали все годы в Черной крепости. Острые клинки их лучей впиваются в его глаза, вознося тревогу до уверенности в случившейся беде.
Днем Иржи тоже не находит себе места, бродя вверх-вниз по закрученным, словно раковина наутилуса лестницам башни. Внутренняя ее часть сохранилась лучше всего — крепкий камень того же цвета, что и пески вокруг. А внешняя была разрушена войной, а потом временем — и сейчас казалось, что башня — замок из песка, построенный на берегу моря, которое вот-вот слизнет его языком прибоя и уволочет в темные глубины.
С наступлением темноты он снова выходит в пески, провожая вечернюю зарю воспаленным взглядом, хотя знает, что Петра не сможет появиться так рано — из оазиса несколько часов пути, даже если выдвинуться на закате.
Ночь длится слишком долго, и с каждой вспыхивающей и гаснущей звездой Иржи чувствует, как нервы натягиваются все туже, словно тысячи луков вышедших на бранное поле воинов.
Он чувствует возвращение Петры, когда она еще далеко. Звуки ночной пустыни неуловимо меняются, впуская в себя еще неслышный топот копыт. Иржи поднимается с еще не остывшего песка и ждет ее, чувствуя, как звонит внутри колокол беды.
— Ты в порядке? — спрашивает он, когда она осаживает коня рядом с ним и спешивается. Сумки, притороченные к седлу, набиты вдвое больше обычного. Это может объяснить ее задержку. Это, а не неведомая беда.
— Да, конечно, что со мной случится? — пожимает Петра плечами, похлопывая коня по шее.
Голос ее беспечен, и это настораживает Иржи.
Обычно она возвращается усталой, хмурой и немного раздраженной на него.
— Какие новости? — терпение не его добродетель. — В столице что-то произошло?
Петра оборачивается чуть резче, чем он ожидает, и на мгновение на лице ее мелькает страх.
— Все как обычно, — отвечает она, вновь отвернувшись. — Сейчас разденусь и расскажу.
— Из столицы что-то есть? — Иржи будто не слышит ее.
— Нет.
— Вообще ничего?
— Вообще.
Петра не поворачивается. Она снимает седло с коня, оглаживает ладонями его горячие бока, успокаивая после тяжелого пути в песке — словно особенно не торопится переодеваться и выкладывать новости.
— Раньше ты пересказывала даже сплетни о каких-то неизвестных мне девицах императорского двора, а теперь вообще никаких новостей?
— Какие они девицы после императорского-то двора, тебе ли не знать, — ухмыляется Петра и без нужды подкладывает в кормушку коню еще высушенной травы. Словно тянет время.
— Это не ответ! — жестко говорит Иржи.
— Куда ты спешишь? — удивляется она. — Никаких срочных вестей, остальное расскажу за завтраком. Я добыла в этот раз не только сыра, но и копченого мяса и… ты не поверишь! Бутылку вина!
— Да ты сама пьяна!
— Нисколько, — вместо обиды Петра беззаботно смеется. — Иржи… Что ты такой нервный? Успокойся. Послушай, я знаю, что ты хранишь верность своей… Но ведь я же твоя боевая подруга, я твоя подчиненная и практически имущество. Ты не беспокойся, я не заставлю тебя жениться, но мужчинам надо сбрасывать напряжение!
Иржи стискивает зубы. Стискивает кулаки. Стискивает… Петра поворачивается к нему и теперь — только теперь! — начинает снимать кожаную куртку, под которой расстегнутая наполовину влажная от пота рубаха, облепившая ее тело, отчетливо прорисовывая все подробности.
Она права — Иржи непременно бы набросился на нее за ее дерзость, за откровенную провокацию, в конце концов сдавшись зову плоти. Там, в другой жизни — набросился бы.