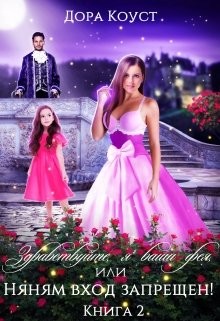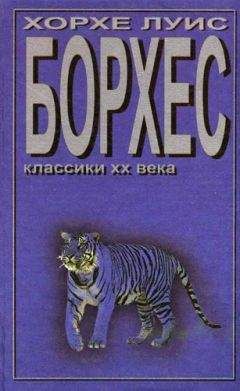Платоновна, не беспокойтесь, вашего мужа и вашу дочь сейчас осмотрят наши лучшие врачи. Полицейские мобили быстрые, сирену включат и уже через несколько минут в городе будут. Злодеи то сильно не заморачивались, под самым нашим носом сидели. Если бы не устроенная вами иллюминация, мы бы долго искали их логово. — Добужинский развел руками и извиняще улыбнулся.
Улыбаться в ответ я не спешила.
— Валериан Антонович, вы наверное захотите узнать больше. Составить протокол и взять показания, но давайте договоримся, что все разговыры будут завтра. Сегодня я слишком устала, очень волнуюсь за Лизу и за..., — я запнулась не зная как теперь называть Загряжского. — За мужа, — выдохнула я тихо и с удивлением поняла, произнести два коротких слова было совсем не трудно.
— Ах, Эмма Платоновна, прошу простить меня за промедление. Конечно, сейчас и речи не может быть о протоколах. Давайте я вас домой отвезу. Вам отдохнуть нужно, — голос Добужинского был таким мягким и таким непривычно заботливым, что мне захотелось улыбнуться.
— Валериан Антонович, буду вам благодарна, если мы заедем домой, успокоим Шурика и Стефана Стефановича, а затем вы меня отвезете в вашу знаменитую больницу. Хочу быть рядом с дочерью и..., — не договорила, запнулась, опять пришлось напрягаться, что-бы произнести слово"муж".
Добужинский согласно кивнул головой и поклонившись подал мне руку. Мы медленно направились к выходу из этой каменной тюрьмы, по дороге я чуть не запнулась о распластанное тело цыгана. Он лежал на грязном, мокром от подтаявшего снега полу и улыбался ощерив желтоватые зубы. Черный, мутный, словно присыпанный пеплом, полузакрытый глаз казалось подмигивал мне.
Я отвернулась и поспешила выйти, туда за распахнутую, железную дверь. Мы долго шли по длинному, мрачному тоннеллю, затем попали в обыкновенный, деревенский погреб. Вдоль побеленных известью стен, стояли мешки с овощами. От двух дубовых бочек тянуло огуречным рассолом, банки с вареньем тесными рядами выстроились на деревянных полках. Лестница, старая и ветхая привела нас наверх. В тесной комнатушке, затмевая огонь в печи, сияли мощным, синим светом множество камней, которые были набросанны, словно обыкновенный, крупный гравий на строительной площадке.
Когда мы с Добужинским пройдя через темные сени, оказались на улице, то я на мгновение зажмурилась. Огромный прожектор бил прямо в небо потоком синего света. Вокруг было светло на многие километры. Встревоженно лаяли собаки, где-то громко разговаривали люди.
— Вот, Эмма Платоновна, какой вы переполох устроили, — сухо и осуждающе промолвил Добужинский. — На днях, наверное из столицы проверяющие пожалуют. Слыханное ли это дело, столько камней за один раз зарядить!
Глава тридцатая. Клубок распутался сам
Наверное все хирургические отделения в больницах, похожи друг на друга. Они пахнут хлоркой, стиранным бельем и болью.
Загряжский лежал на сероватых простынях и теперь совсем не был похож на того лощеного, самоуверенного красавчика, которого я когда-то увидела впервые на осеннем балу у губернатора.
Серое лицо слилось с такой же серой подушкой, черные волосы были взлохмаченными и влажными. Трехдневная щетина напоминала мне сапожную щетку, на которую кто-то по рассеянности рассыпал муку. Лишь черные, густые иголочки ресниц были яркими, словно нарисованные свежей сажей.
Мужчина спал. Иногда тревожно хмурились его черные брови, иногда тихий стон слетал с сухих, потрескавшихся губ.
Я уже с полчаса сидела возле его кровати на неудобном, скрипящем при каждом движении стуле, которое мне любезно выделил главный доктор, внешне очень похожий на жизнерадостного Айболита из детской книжки.
Пользуясь беспомощным положением своего"мужа", рассматривала его лицо. Затем взгляд переместился на крупные и красивые кисти рук, которые были похожи на идеальные, мраморные произведения искусств, и неподвижно, как у покойника, лежали поверх серого одеяла. Белоснежные, свежие бинты на левом плече, резко конрастировали с унылым, серым цветом, а выступающее на них алое пятно, смотрелось неуместной, яркой розой.
Задумчиво разгладила грубую складку на одеяле. А ведь на месте Загряжскрго, на этих серых простынях, сейчас должна была лежать я. Это конечно в лучшем случае... А в худшем случае, в"Сладких Хрящиках", сейчас бы готовились к погребению молодой, но такой глупой хозяйки. Погоревали бы немного, да и забыли бы. Кому я нужна?
На душе стало тоскливо, а в носу щекотно. Слезы, такие непредвиденные и такие обильные, словно дождь в грозу, закапали из глаз. Они тяжелыми каплями упали на серое одеяло, на сложенные, как у покойника руки Загряжского.
Черные ресницы дрогнули, затрепетали и яркие сине-зеленые глаза раскрылись. Они смотрели на меня, как всегда насмешливо. Только насмешка была какой то вымученной и больше напоминала мне ласковую, снисходительную иронию.
— Эмма, ты умеешь плакать? — прохрипели сухие губы, а затем попытались изобразить широкую улыбку.
Мужчина попробовал приподняться, но я вовремя пресекла его опасные усилия. Ладонью легонько вернула его в исходное положение.
— Лежать, Загряжский! Ты же не хочешь, что бы разошлись швы? Пусть сердце и не пострадало, но пуля достаточно глубоко прошила твою тушку, — я стыдливо прятала глаза и пыталась украдкой вытереть позорные слезы.
Мужчина покорно кивнул головой.
— Как скажешь женушка! Видишь какой, я послушный?
Я понимала, что он злит меня намеренно. Не успел очнуться, а уже ненавидит. Странно, разве можно спасать от смерти и ненавидить одновременно? Возможно он спасал не меня, а свою дочь? Но Лиза в тот момент, была надежно прикрыта моим телом...
Словно прочитав мои мысли, Загряжский потушил в сине-зеленых глазах ласковую иронию. Теперь в них плескалась тревога.
— Как себя чувствует Лиза? С ней все в порядке?
Голос у него был такой хриплый и тихий, что только тут мне пришло в голову, поднести к потрескавшимся губам мужчины белый, фаянсовый поильник. Он сделал два жадных глотка воды и отстранил мои руки холодными, как мрамор пальцами.
Чувствуя его волнение, поспешила успокоить своего спасителя.
— С Лизой все хорошо. У нее еще немного болит горло, но температуры и слабости уже не наблюдается. Лимон не отходит от нее ни на шаг. Шурик безропотно и послушно выполняет все ее прихоти. Правда она почти совсем не капризничает. Первые два дня все просила свежих кексов с изюмом. Говорила, что в своей каменной тюрьме жалела только об одном — об недоеденных кексах и об сладком изюме, который всегда выковыривала из них, — на этих словах мой голос дрогнул и задрожал, а слезы опять были готовы оросить собой больничное одеяло.
Я постаралась их скрыть. Встала