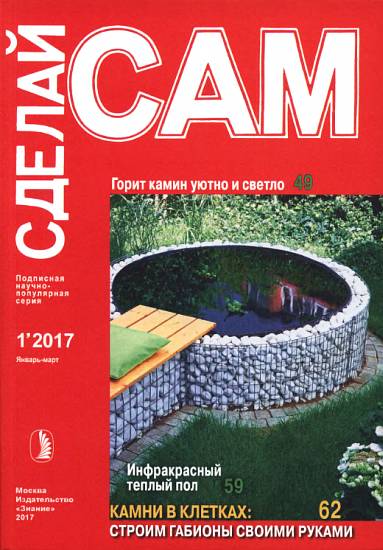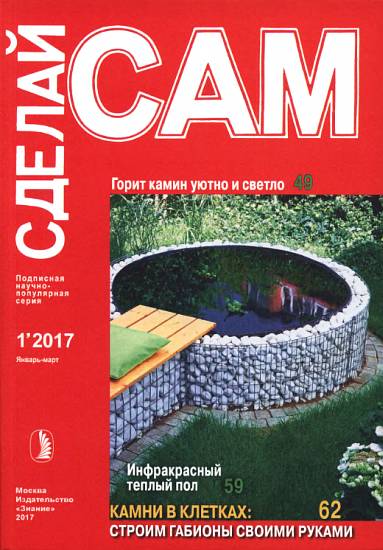Сразу две или три стрелы наискось показались гранёными жалами во внутреннюю часть щита. Меня удивил звук, с каким они появились: удар и треск почти одновременный, точно упали крупные градины. Наконечники в венчике расколотых щеп, в дурнотной близости от моего запрокинутого лица, от вдетой в крепёжные ремни руки Джеда.
Это было так странно, что казалось не взаправду, и упавший с пробитой гортанью погиб так внезапно и тихо, что смерть его не выглядела настоящей.
Много позже, уже по трезвому размышлению, я заключила, что всё длилось недолго, не более нескольких минут, но тогда время обрело особенные свойства. Множество событий происходили разом, но человеческий язык, по крайней мере, тот, что мне известен, не имеет средств для описания одномоментного. Всё в нём подчинено закону последовательности, и закон этот даже в самом сумбурном рассказе создаёт иллюзию порядка, тогда как то, чему я стала свидетелем, более сродни было хаосу, свалке тем худшей, что я едва понимала, что происходит, и едва успевала замечать изменения, когда живое превращалось в мёртвое, крик ярости переходил в вопль боли, вопль — в вечную тишину. Когда стрелы сменились на мечи? Когда мы сменили направление движения, выдираясь из ловушки, из узкого жерла, что захлопнуло бы нас, словно крышкой в кувшине, назад, к устью расщелины, где и своды были не так высоки, лишая нападавших хоть части преимущества?
Отчего-то в тот миг темнота под близким переплетением ветвей, что разрослись столь буйно, смыкались так тесно, что создавали видимость замкнутого пространства, представлялась наиболее безопасным местом, и, пока ошеломлённый разум молчал, тело, чуя веющее в затылок ледяное дыхание, стремилось во что бы то ни стало достичь миража спасения.
Джерард не позволил сотворить роковую глупость. Кобыла моя была тогда, без сомнений, умнее хозяйки и без норова подчинилась крепкой руке и приказу, перейдя в недолгий, но резвый галоп. Единственное, на что меня, к счастью, хватило тогда — это, памятуя о последнем предупреждении Джерарда, не выпускать поводьев и не свалиться в давке под копыта чужого коня.
Нас думали поймать в мешок, и, вероятно, преуспели бы в этом, если бы не Джерард, разоблачивший замысел чуть раньше, у самого входа в ловушку. Первые выстрелы оставили на камнях безымянного ручейка пару мертвецов, но внезапность уже не играла на руку нападавшим, и новые стрелы не принесли большого вреда. Выбравшись на широкое место, воины ард-риага получили простор для движений и перестали быть просто мишенями. Нас не перестреляли сверху, не заперли на узком участке меж двух отрядов, но нужно было как можно скорее расправиться с одной половиной, пока к ним не подоспела подмога. Враги поднимались из-за кустов, и от страха их число многократно увеличивалось: тогда нас атаковала целый легион чудищ с оскаленными ртами, с бельмами глаз на чумазых лицах.
От стрел на таком расстоянии немного проку, в ход пошло более честное оружие. Пожалуй, никогда прежде я не ощущала с такой остротой собственную беспомощность. Гуща схватки — наверное, самое подходящее место, чтобы пожелать стать как можно сильнее, быстрее, удачливей, если уж нельзя стать невидимой или отрастить крылья. Когда вблизи раздают удары, каждый из которых может стоить тебе жизни или превратить в калеку, тело становится точно мыльный пузырь, уязвимый настолько, что лопнет от первого дуновения, а удары видятся всё ближе, так близко, что каждый чувствуешь на себе, в себе, и каждый тебе предназначен. Скрежет и лязг — эти звуки заставляли внутренности сжиматься и переворачиваться, а в ушах засела боль. Звук же, с каким железо крушило кость, мог лишить сознания.
Кого-то, занятого рубкой с несколькими противниками, стащили с коня и, повалив, добили на земле. Лишившаяся всадника лошадь, в чьём боку и крупе засели стрелы, то с непрерывным ржанием металась в этом кипящем котле, то свечила и билась на месте, далеко откидывая задние ноги. Угодила одному из чужаков копытом в грудину — от удара не защитила клёпаная куртка. Лошадь топтала уже упавшего, под её копытами влажно хрустело. Наконец, топор рассёк шею ошалевшему от боли и крови животному. Гнедая шкура залоснилась от быстрых потоков.
Кольцо защитников всё истончалось. Мои светлые волосы реяли для нападавших точно вражеский стяг. Спереди и справа от меня враз погибли люди. Вот коротко вскрикнул, хватаясь за копьё в груди, один. Вот, обливаясь кровью из многих ран, лёг на шею жеребцу другой.
На Джеда навалилось сразу несколько. Монашеская ряса не внушала им опасения. Джерард подпустил их к себе, замедлившихся и беспечных, пинком отшвырнул подобравшегося ударить снизу вверх, сдёрнул с себя рясу и, коротко прошептав что-то, кинул её в другого. Шерстяная ткань облепила голову, спеленала руки и плечи. Едва ли ряса могла опутать человека так, чтобы тот не в состоянии был ни содрать её, ни разорвать, но о странности этой я мало пеклась тогда, поняв, что под монашеским одеянием Джед не имеет иного оружия, кроме голых рук. В сумятице образов и переживаний единая внятная мысль о том, что Джерард может уже в следующий миг упасть, как и иные до него, бездыханным телом, вспыхнула настолько ярко, что я готова была сама во весь дух призывать семь сидхе, и за спасение его целовать им подолы. Боюсь, когда речь идёт о жизни и смерти, понятие «ревность», равно как и все прочие, перестаёт существовать.
Едва ли убийцы ожидали получить от монаха такой отпор, но скоро убедились, что под чёрной рясой скрывалась отнюдь не духовная особа. Наёмник уклонился от копья, другой нападавший свалился с разбитым лицом под ударом утяжелённого цепями кулака. От замаха вооружённого мечом детины Джерард не стал уходить, поймав оружие прямо за лезвие и выдернув из рук опешившего противника. Сменивший хозяина меч раскроил череп прежнему владельцу.
По крайней мере после я рассудила, что события происходили именно в такой последовательности… Впрочем, вслед за тем случился некоторый промежуток, в течение коего не помню ничего вовсе, только крики и то, что бойня ещё сколько-то продолжалась.
Следующее моё воспоминание заключалось в том, что Джерард тряс меня за плечи, весьма крепко, к слову, и звал по имени. Вероятно, боль отрезвила лучше всего, к тому же словно от очажного жара пекло щёки. Полагаю, тюком стащив меня с седла, Джерард не смутился наградить парой целебных пощёчин.
— Ты жив! — выдохнула я первое, что было важным.
— Как видишь.
Прибавить к этому «и здоров» означало бы покривить душой. Одежда на нём была изорвана и запятнана кровью, по большей части уже высохшей и побуревшей, кое-где края прорех темнели от свежей, пролившейся из потревоженных ран. Едва ли они были глубоки, но их было немало. Хватило бы и невеликого ума понять, что повреждения эти он получил ещё в подземельях Тары, и гнев на отца полыхнул так жарко, что на время даже вытеснил страх.
Вид вокруг вновь изменился, и я не помнила, как мы очутились в неглубоком, поросшем буками распадке. Из дюжины с лишком воинов, что выехали со мною перед рассветом за ворота замка, осталось восьмеро, и едва ли не каждый был ранен. Солнце клонилось за полдень.
От нахлынувших воспоминаний замутило, колени ослабели, как у ползунка, а руки повисли плетями. По мере осознания произошедшего страх рос и обретал всё худшую власть надо мной. Единственно то обстоятельство, что жизнь с малолетства готовила ко встрече со страхом и принудила обвыкнуться с ним, только это и позволило сохранить жалкие крохи самообладания. Я ощутила настоятельную потребность в уединении и почти верила в свою способность отойти на несколько десятков шагов и не свалиться при этом. Благо, никто не пошёл следом, все были заняты собственными хворобами и переведением духа после загнанной скачки, да и по виду моему, верно, без слов можно было догадаться о причине отлучки.
Прибредя обратно, я повинилась перед мрачными спутниками:
— Прошу извинить мою слабость.
Голос, как оказалось, способен плутать и запинаться не меньше, чем ноги.