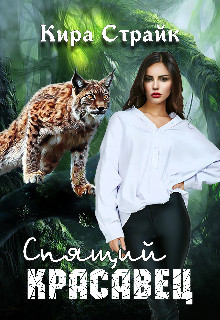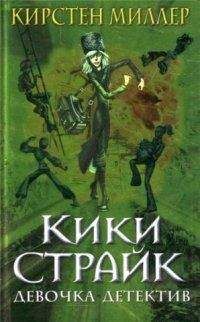И потянулись эти страшные дни. За окном светило солнце, а у нас тут наступил маленький ад. Всё необходимое – еду, воду для кипячения – нам носили домашние и оставляли на столе у входа. Рози не отходила от сына, обтирая его исхудавшее тело, меняя компрессы, помогая
Эмбер поить отварами до тех пор, пока сама не оказалась на грани потери сознания. Только тогда смогли со знахаркой уговорить её уйти в соседнюю комнату и хоть немного поспать.
Эмбер без конца колдовала над плитой, приготавливая свежие снадобья не только для питья, но и для обмывания мальчишки.
Ну а я следила, чтобы у снохи на лице оставалась свежая повязка, под Анри – чистая постель, в помещении сохранялась возможная стерильность, все до красноты регулярно намывали руки, были накормлены и хотя бы иногда спали – тогда на смену женщинам вставала сама.
Хуже всего оказалось стерпеться с дымовой завесой, которую первым делом развела и без конца поддерживала знахарка. В небольших металлических чашах постоянно тлели какие-то травки, смешанные с непонятным порошком.
Как пояснила Эмбер, этот дым был необходим, чтобы обеззараживать воздух, тело и лёгкие
Анри. Ну и наши, соответственно, тоже. Не то, чтобы все эти бабушкины дымовухи слишком отвратительно пахли, но они коптили везде, в каждом углу. Укрыться было решительно негде, разве только на минуту выскочить, подышать на улице. В остальное время глаза нещадно слезились, в носу свербило, несмотря на тканевую защиту, а во рту появился посторонний привкус, который я даже описать не могу.
Эмбер открывала окно, впускала кислород, а потом снова поджигала свои травки. И так по кругу. Мало того, мы ещё и варево лечебное по её настоянию пили наравне с больным.
Возможно, именно это и уберегло нас с Рози от заражения. Нам было дурно, тошно, но признаков лихорадки не появлялось.
Сколько прошло дней прежде, чем Анри открыл глаза и узнал мать? Три? Четыре? Когда я трясущимися руками вывесила за окно кусок зелёной занавески, по договорённости означавшей, что ребёнок очнулся. Когда затихший в тягостном ожидании дом смог увидеть этот знак и облегчённо вздохнуть. Когда отец, цепенеющий от неведения, получил надежду и возможность благодарить Всевышнего за спасение сына. И Рози… Её лицо, преображённое молитвенной нежностью… не забыть, не описать.
47
Конечно, для нас на этом ничего не закончилось. Строгая бабка Эмбер непреклонно заявила, что выходить из нашего «лазаретного бункера» и контактировать с остальными жителями имения не следует ещё как минимум неделю. Ну тут даже не поспоришь. Ей, как человеку опытному, было известнее, насколько живучая эта зараза, и какое время нужно отсидеться в карантине, чтобы она не поползла дальше.
Но это пережить было гораздо легче. Пусть мы всё так же давились горьким бабулиным зельем, а во флигеле по-прежнему курились травки. Теперь, вроде бы, даже чуть менее интенсивно, однако, большой разницы никто не почувствовал. За эти дни все так основательно продымились, что буквально превратились в кур холодного копчения. Важно другое: мы уже не спасали умирающего, а лечили выздоравливающего. А это, согласитесь, великая принципиальная разница.
Анри оказался славным мальчишкой. Вот прям славным. И очень стойким. Чтобы это понять, довольно было посмотреть, как мужественно он боролся со своим недугом. К тому же, стало очевидно, отчего они сошлись с Ноэлем. Не приятельствовали, как соседи, а именно сдружились.
Светленький, неброский, просто очень приятный парень внешне разительно отличался от эффектного красавчика – Ноэля. Да и ядрёную харизматичность хулиганистого наследника
Лапьеров невозможно было сравнить с мягким рассудительным спокойствием моего племянника.
Но внутренними ключевыми качествами, они, пожалуй, были схожи, как близнецы-братья.
Понятия о благородстве, достоинстве – возвышенные, в силу возраста немного идеализированные - друзья явно имели общие. А разницей темпераментов они, скорее, просто дополняли, уравновешивали друг друга. Оба ещё не научились аристократично лицемерить и мастерски держать, как его… покер фейс. Оба пока оставались собой и дышали чистой юностью.
Таким, как Анри, наверное, в его годы был Ральф. Пока его не надломили, не вынудили смириться и идти против самого себя. И как же хотелось надеяться, что брат не допустит, чтобы сын повторил его судьбу.
Ладно, долго ли, коротко ли, наступил тот счастливейший миг, когда Эмбер с чистой совестью дозволила нам выйти из добровольного заточения. К слову, Анри это сделал, хоть и шатаясь, под ручку, но уже на своих двоих. Разумеется, под восторженные вопли и счастливые слёзы всех обитателей имения.
А Ральф… Мы с Рози только успевали строжиться и отгонять его от себя и сына, чтобы он не бросился прямо сейчас обниматься и расцеловывать нас – немытых. Бабулю Эмбер счастливый отец, кажется, был готов просто понести на руках. Не слишком склонная к проявлению эмоций старушка даже смутилась от такого количества внимания, да ещё и от собственного господина. Но то, что ей это признание приятно – было очевидно. Как и то, что почтенная знахарка за спасение Анри получит не только бурную моральную, но и достойную материальную благодарность.
Перво-наперво всех определили откисать и баниться, как говорится, в семи водах. Лично я в таком зачуханном виде в комнату свою даже заходить не захотела, не то, что заляпывать её брызгами грязи. Представила, что там с меня сейчас польётся, и попросила свою кадушку установить в сарае.
Вот прям так. Эстетично, нет ли, а чтобы даже духу больничного в свою норку не принести. Там и плескалась до умопомрачения, воды извела – страсть. Какое же это было наслаждение – просто дышать нормальным воздухом и чувствовать, как с тела смывается копоть, сам запах болезни, напряжение пережитых испытаний, детской боли и страданий.
Одежду, включая знахаркину, без раздумий сожгли в той же печи, где я эти дни уничтожала постельное и сорочки Анри. Как по мне, я бы и сам флигель спалила к чертям собачьим. Чтобы не торчал тут памятником этих жутких дней. Ну и чтобы наверняка не опасаться, что какая-нибудь живучая бацилла возьмёт вдруг и очнётся.
Но он находился в окружении деревьев, это было опасно. Ну да это хозяевам решать. Пока бабуля ещё разок щедро сыпанула своих смесей по чашкам, чтобы напоследок хорошенько так, убойно прокурить домик. Заперла дверь и велела не открывать ещё неделю, пока там всё не только не прогорит, но и не осядет. Законсервировала, значит.
Эмбер тоже хорошенько намыли и нарядили в новое. Наши как проведали, что докторица деревенская чадит во флигеле так, что света белого не видно, догадались озаботиться свежей одёжкой и для неё. Бабуля-то как раз знала, что ей предстояло сделать, привезла смену с собой.
Но как обновы увидала да примерила – согласилась оставить себе.
Прошу заметить – согласилась. Она у нас вообще на приём благодарностей оказалась необыкновенно щепетильной. Железная, независимая и совершенно непреклонная бабка.
Предложили, было, задержаться - отдохнуть, отлежаться, но та наотрез отказалась –
соскучилась, говорит, по родным стенам. Мы – помоложе, и то после таких потрясений еле ноги носили, а она, видишь что, поеду, и всё ты тут.
Ральф, в порыве безграничной признательности, готов был наградить целительницу чем угодно. Ему хотелось сделать для неё нечто значительное, особенное. Помимо денежной оплаты.
Ну не вручать же было старушке цветок из своей коллекции. Деревенскому жителю нужнее что-то практичное. Попытался одарить её любым на выбор свободным домом в деревне -
получил ответ, что она свой любит и покидать его не собирается. «В нём всю жисть провела, в нём и помру.» Баста.
От инициативы сделать ей ремонт, помочь поправить хозяйство тоже отказалась.
Улыбнулась только так спокойно, да и говорит, мол, мне, господин, за добро деревенские и так всё, что надобно, починяют: и забор, как покосится, поправят, и крышу подлатают. И сейчас вот, сколь её, хозяйки, нет – за двором, за скотинкой приглядывают.