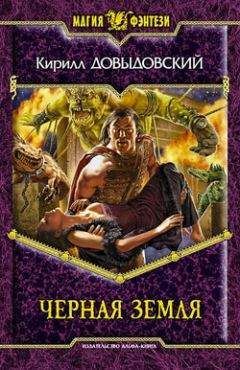локтей рукавами и расстегнутая безрукавка. Если я бледна, то в его лице нет ни намека на кровинку, как и в глазах — они выцвели и поблекли, пустые и бездумные, точно у придонной рыбы. При всем при этом опирается Турин на огромный топор с длинной ручкой.
Его же люди стоят чуть дальше, одетые кто во что, но все как-то несуразно, точно набегу, впопыхах. Лицо каждого закрыто повязкой. Только глаза видны, да и то едва ли.
— А я заждался, — брат разводит руки в стороны, точно ожидая, что я брошусь в его объятия. — Скучала по мне, сестренка?
— Немного соскучилась. Как раз голова болеть перестала.
— Да полно тебе поминать старое, с кем не бывает. Ничего же не случилось. — Выражение его лица вообще не меняется. Это точно маска с подвижным открывающимся ртом, за которой нет ни малейшей эмоции.
— Ты хотел поговорить, — напоминаю ему.
— Конечно. Я не образец доброго мужа, сестренка, но даже мне не приходило в голову тискаться с другими бабами, пока моя нареченная не пошла по рукам.
— О чем ты?
— О том, сестренка, что ты позоришь род Хельмбергов, якшаясь с ублюдочным чернокнижником при живом муже.
Чувствую, как за моей спиной дергается Кел, но удерживаю его рукой.
— Пожалуйста… — оборачиваюсь к нему, затем снова к Турину: — Так что муж не пришел сам? Зачем прислал тебя?
— Прислал?
Мне кажется или в глазах Турина мелькает что-то странное, что-то, чего там быть не может, как будто кто-то смотрит на меня с той стороны — и это не брат.
— Идем со мной, сестренка, — продолжает он. — Ты слишком заигралась, чтобы выпутаться самостоятельно.
— Ты мне поможешь?
— Кто же, как ни родственник.
Замечаю, что вокруг нас начинают собираться люди. Кто с оружием, кто — нет. Мужчины, женщины. Прислушиваются, присматриваются, пытаясь понять, что происходит.
— Ты можешь думать, что поступаешь верно, — продолжает Турин, — но ты всего лишь неопытная девчонка, которая где-то что-то услышала, где-то что-то увидела. И ты сама это знаешь. А пока тебе нужен опытный наставник.
— И к нему ты меня отведешь?
— Да, Хёдд. И это нормально. Он твой муж. Он взял на себя ответственность за тебя и твоего ребенка. Или ты забыла, что не имеешь права думать только о себе?
— Признаться, немного запамятовала, — отчего-то очень хочется вывести его из себя, выдавить на этом подобии лица хоть намек на эмоцию. — Спасибо, что напомнил. Но дальше я сама справлюсь. А мужу передай, что, если хочет меня увидеть, пусть приходит собственными ногами.
— Глупо. Очень глупо. Ты ведь знаешь, что предки входят в этот мир. Знаешь, что будет, когда их станет в достатке.
— Нет, — делаю к шаг к нем. — И никто не знает, братец. Может, расскажешь? А заодно не забудь упомянуть о Холодных ключах, куда каким-то чудесным образом попали твои бочки.
Я очень надеюсь увидеть, как на его безразличном лице дрогнет хотя бы одна мышца, но нет — вообще ничего.
— Бочки? У меня пропало несколько пустых. Я не придал значения, не стал поднимать шум. А надо было? Не подумал, что это так важно, хотя, признаюсь, бочки были хорошие.
Не верю ему. Не верю ни слову.
— Мне было видение, братья мои! — обращается уже к окружившим нас людям. — Я долго носил его в себе, долго молчал, но теперь могу донести его и до вас. Сам верховный шаман направлял мой разум, его благовония подняли меня к чертогам наших Предков — и я говорил с ними. И они дали мне слово. И это слово они сдержали.
Брат выжидает — и я вижу, как по рядам собравшихся проносится легкое волнение. Люди слушают его, смещаются из задних рядов — в передние.
Но, позволь, ты приплел сюда шамана.
Я уже готова выкрикнуть обвинение в его лжи, когда верховный выходит из-за моей спины и степенно шествует к Турину, встает по правую его руку.
Боги!
— Мор, что поразил Лесную Гавань — всего лишь испытание нашей стойкости, — провозглашает шаман уверенным голосом. — Быть может, кто-то из вас решил, что это наказание или, пуще того, проклятие. Но нет. Это — благо. Это возможность показать предкам, что мы достойны их памяти, достойны их подвигов, достойны всех тех веков, что наши отцы и деды боролись за саму нашу возможность жить. Но что с нами случилось? Почему мы опустили оружие? Почему позволили чужакам топтать нашу землю, копаться в ней и вскрывать ее внутренности, преследуя собственные корыстные цели? Почему, — он обводит обвиняющим взглядом всех собравшихся, — мы спокойно ходим, спим, едим, когда наша земля стонет от иноземного гнета?
— Мы виноваты, верховный, Турин опускается перед шаманом на одно колено, склоняет голову. — Лучшие из нас погибли. Мы же трусливо попрятались по дальним деревням в надежде, что беда минует сама собой. Что все снова станет, как прежде. Но мы ошиблись.
— Все мы ошибались, — вздыхает шаман и касается плеча Турина, призывая его подняться. — Вставай, воин. Твоя жертва велика — и предки видят ее. Они видят каждого из нас! — возвышает голос. — Не страшитесь, не сомневайтесь, не бегите. У нас нет иной земли, кроме той, на которой мы стоим. Не мор, не болезнь, но избавление. Ибо свобода приходит только через боль!
В толпе собравшихся слышатся крики поддержки, воинственные вопли, но не так много, как, скорее всего, хотелось бы шаману.
— О какой свободе ты говоришь, верховный? — делаю вперед еще один шаг. — Кому ты служишь? Чья воля говорит твоими устами?
— В тебе нет веры, Хёдд, — бросает зло. — Твоими думами владеют вовсе не собственные земляки, не собственный народ. Там поселился… — он красноречиво переводит взгляд на Кел'исса, — враг. И он нашептывает тебе. И ты не слышишь его лжи, не понимаешь всего обмана, коим он опутывает тебя, норовя снова сделать своей послушной куклой.
Как ни больно это осознавать, но именно послушной куклой я и была до того, как пришло известие о гибели Кела. И каждый из присутствующих здесь имеет полное право меня в этом обвинить.
Вот только молчать, как сделала бы раньше, я не буду.
— Моя вера прямо сейчас излечивает людей, шаман! — говорю с вызовом. — Кто-нибудь видел, как выздоровел хоть один человек, пораженный мором? — обращаюсь ко всем.
В ответ лишь отрицательное поматывание головами.
Прошу своего охранителя привести мальчика и мужчину со шрамом.
— За тобой идет смерть, — смотрю на брата. — Это не искупление — это истребление, Турин. Истребление твоего собственного народа. Я не знаю, кто и