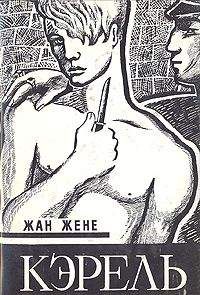Это стремление обрести собственную манеру поведения наилучшим образом характеризует Кэреля, сразу же выделяет его из всей команды и невольно наводит на мысли о каком-то жутком дендизма. Ребенком он развлекался тем, что, писая, соревновался сам с собой, стараясь направить струю как можно выше и дальше. Однажды ночью в Кадисе неподалеку от борделя, из которого он только что вышел вместе со слегка пьяным, как и он, Виком, мы снова могли бы его застать писающим под окнами тюрьмы. Тогда они, расстегнув ширинки, сжимали в кулаках члены друг друга. Лицо Кэреля было выразительно. Лучше всего его можно было бы описать с помощью экспрессивной и гармоничной речи, какой является лирическая поэзия. Когда, приближаясь, Кэрель улыбался, на его щеках появлялись две маленькие ямочки. Грустная, немного двусмысленная улыбка предназначалась им скорее самому себе, чем тому, на кого он смотрел.
Всякий раз, когда лейтенант Себлон рисовал его облик в своем воображении, он испытывал такое глубокое возбуждение, как будто в мужском хоре он видел мужественного, крепко стоящего на ногах, с сильными бедрами и шеей юношу, поющего своим низким мужским голосом гимны Святой Деве. Кэрель поражал своих товарищей. Он поражал их своей силой и крайней вульгарностью поведения. Они видели, что вызывают у него слабое раздражение, подобное тому, какое испытывает спящий, слышащий за москитной сеткой жужжание комара, остановленного тюлем и взволнованного этим непреодолимым и невидимым препятствием. Когда мы читаем: «Выражение его лица постепенно менялось: на смену суровости пришла нежность и ироничность, в его повадке чувствовался моряк, он стоял, широко расставив ноги. Этот убийца много путешествовал…» — мы знаем, что этот портрет Кампи, казненного 30 апреля 1884 года, был составлен уже после его смерти. Однако он точен, потому что сделан непосредственно тем, кто его видел. Товарищи же Кэреля могли бы сказать о нем: странный тип, от которого можно ждать чего угодно. Каждый день он появлялся среди них, отмеченный сиянием очередного скандала. Матрос нашего Военного флота наделен своеобразным простодушием, в основе которого лежит его благородная привязанность к оружию. Если бы он захотел всерьез заняться контрабандой или спекуляцией, у него бы это вряд ли получилось. Даже когда, преодолевая в себе отвращение и скуку, он решается на это, первая же его попытка, как правило, заканчивается неудачей. Кэрель же был не так прост. Ему незачем было бравировать своей силой — хулиганом он был всегда, — но он пользовался защитой французского флага для своих сомнительных авантюр. С юных лет он ходил к грузчикам и морякам торгового флота. Среди них он чувствовал себя как рыба в воде.
Кэрель шел, ни о чем не думая, с влажным и горячим лицом. Его тяготило ясное сознание того, что все его подвиги не имели никакого значения в глазах Марио и Ноно, не интересовавшихся никем, кроме самих себя. Подойдя к мосту Рекувранс, он спустился по ведущей к причалу лестнице. Тут, проходя мимо таможни, он подумал, что, пожалуй, слишком дешево отдает свои десять кило опиума[5]. Но сейчас главное было «закинуть удочку». Он дошел до причала, к которому должен был подойти катер, перевозивший матросов и офицеров на борт стоящего на рейде «Мстителя». Он взглянул на часы: без десяти четыре. Катер прибывал через десять минут. Кэрель сделал еще сотню шагов, отчасти для того, чтобы согреться, а отчасти потому, что чувствовал необходимость успокоить свое волнение. Неожиданно он натолкнулся на стену, ограждавшую от моря ведущую к мосту дорогу. Из-за тумана Кэрель не мог разглядеть верха стены. Но по ее основанию, по углу ее наклона к земле, по размерам и массивности ее камней Кэрель догадался, что она очень высокая. Тошнота — правда, не такая сильная, как та, которую он чувствовал, стоя перед двумя мужчинами в борделе, — снова подступила к его горлу. Однако даже если его слегка чрезмерная физическая выносливость зависела от внезапного упадка сил, доказывая тем самым, что человек слаб, никогда Кэрель не осмелился бы сознаться в этой слабости, опершись, например, о стену, но тоскливое ощущение собственной заброшенности заставило его немного ссутулиться. Он отошел от стены и повернулся к ней спиной. Перед ним было скрытое туманом море.
— Странный парень, — подумал он, подняв брови.
Он размышлял, неподвижно расставив ноги. Его опущенный взгляд сквозь туман нащупал у его ног темные скользкие камни набережной. Не спеша и методично он разбирал в своем воображении характерные особенности внешности Марио. Его руки. Дугу — он хорошо рассмотрел ее, — что проходит от мизинца к концу указательного пальца. Толщину складок. Ширину плеч. Его безразличие. Белокурые волосы. Голубые глаза. Усы Норбера. Круглый и лоснящийся череп. Опять Марио, красивого черного цвета ноготь на его мизинце, совсем как лакированный. Абсолютно черного цвета не бывает, и этот черный ноготь на конце его раздавленного мизинца напоминал цветок.
— Что вы здесь делаете?
Кэрель мгновенно отдал честь возникшему перед ним силуэту. Он с радостью приветствовал пронзивший туман строгий голос, как будто он исходил из какого-то теплого и светлого, покрытого золотом места.
— Меня послали в военно-морской округ, лейтенант.
Офицер подошел.
— Вы на берегу?
Кэрель остался стоять навытяжку, одновременно пытаясь спрятать под манжет свое запястье с золотыми часами.
— Вы вернетесь на следующем катере. Я хочу, чтобы вы отнесли приказ в управление.
Лейтенант Себлон нацарапал несколько слов на конверте, который протянул матросу. Он дал ему еще несколько сделанных подчеркнуто сухим тоном указаний. Кэрель слушал его. Временами улыбка приподнимала его подергивавшуюся верхнюю губу. Он был одновременно и удивлен неожиданным появлением офицера, и доволен этим появлением, особенно его радовало то, что здесь, где он только что пережил минутное отчаяние, он встретил лейтенанта, ординарцем которого он был.
— Ступайте.
Это было единственное слово, которое голос лейтенанта произнес с сожалением, без сухости, но не без скрытой силы, которую естественно придавали ему плотно сжатые губы. Кэрель едва заметно улыбнулся. Он отсалютовал и отправился к таможне, снова оказавшись на ведущей к дороге лестнице. Вмешательство лейтенанта, прежде чем он его узнал, вывело его из равновесия, разорвав опаловую оболочку, в которой, как ему казалось, он почти растворился. Оно разрушило созданный им за несколько минут кокон мечты, из которого он вытаскивал эту удивительную ниточку: свое очередное приключение в мире людей и вещей и драматическую развязку, которую он предчувствовал, как туберкулезник чувствует поднимающийся во рту вкус крови, смешанной со слюной. Тем не менее Кэрель довольно быстро взял себя в руки. Прежде всего это было необходимо для того, чтобы сохранить неприкосновенность той сферы, куда офицеры даже самых высоких чинов не имели права заглядывать. Кэрель не допускал в отношении к себе ни малейшей фамильярности. Лейтенант Себлон никогда не сделал ничего — что бы ни думал он сам по этому поводу — для того, чтобы установить между своим ординарцем и собой хоть какую-то близость; впрочем, отчуждение, которое стремился продемонстрировать лейтенант, было излишне, и его тяга к Кэрелю вызывала у матроса улыбку. Кроме того, эта неловкая близость смущала его. Вдруг он улыбнулся, так как голос лейтенанта немного его успокоил. Наконец-то предчувствие опасности, как прежде, расцвело на губах Кэреля. Он стащил часы из ящика стола в каюте, потому что считал, лейтенанта надолго ушедшим по делам.