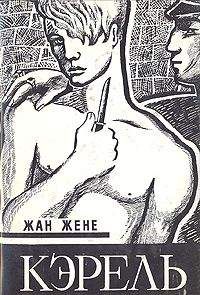— Ступайте.
Это было единственное слово, которое голос лейтенанта произнес с сожалением, без сухости, но не без скрытой силы, которую естественно придавали ему плотно сжатые губы. Кэрель едва заметно улыбнулся. Он отсалютовал и отправился к таможне, снова оказавшись на ведущей к дороге лестнице. Вмешательство лейтенанта, прежде чем он его узнал, вывело его из равновесия, разорвав опаловую оболочку, в которой, как ему казалось, он почти растворился. Оно разрушило созданный им за несколько минут кокон мечты, из которого он вытаскивал эту удивительную ниточку: свое очередное приключение в мире людей и вещей и драматическую развязку, которую он предчувствовал, как туберкулезник чувствует поднимающийся во рту вкус крови, смешанной со слюной. Тем не менее Кэрель довольно быстро взял себя в руки. Прежде всего это было необходимо для того, чтобы сохранить неприкосновенность той сферы, куда офицеры даже самых высоких чинов не имели права заглядывать. Кэрель не допускал в отношении к себе ни малейшей фамильярности. Лейтенант Себлон никогда не сделал ничего — что бы ни думал он сам по этому поводу — для того, чтобы установить между своим ординарцем и собой хоть какую-то близость; впрочем, отчуждение, которое стремился продемонстрировать лейтенант, было излишне, и его тяга к Кэрелю вызывала у матроса улыбку. Кроме того, эта неловкая близость смущала его. Вдруг он улыбнулся, так как голос лейтенанта немного его успокоил. Наконец-то предчувствие опасности, как прежде, расцвело на губах Кэреля. Он стащил часы из ящика стола в каюте, потому что считал, лейтенанта надолго ушедшим по делам.
«Вернувшись, он забудет. Потом решит, что потерял», — подумал он.
Поднимаясь по лестнице, Кэрель провел рукой по железным перилам. Внезапно в его воображении опять всплыли те два парня из борделя. Марио и Норбер. Сука и легавый! Самое ужасное, если им взбредет в голову заложить его прямо сейчас. Может быть, полиция заставляет их вести двойную игру. Эти два типа в воображении Кэреля стали раздуваться. Достигнув чудовищных размеров, они почти поглотили собой Кэреля. А таможня? Проскочить через таможню невозможно. Тошнота снова подступила к горлу. И исчезла вместе с позывом к икоте. Вдруг его осенило, и спокойствие, растекаясь по всему его телу, вернулось к нему. Он был спасен. Через несколько мгновений он уселся на последней ступеньке лестницы на краю дороги. Додумавшись до такого, можно было бы даже позволить себе немного поспать. С этого момента он старался четко формулировать свои мысли:
«Готово. Лучше не придумаешь. Нужен кто-нидь (он уже решил для себя, что это будет Вик) — кто-нидь, кто спустит веревку со стены. Я слажу с катера и остаюсь на причале. Туман больно густой. Вместо штоб сраже идти к таможне, я канаю к стене. Фраер уже наверху и с дороги бросает конец. Надо метров десять-двенадцать каната. Я привязываю сверток. В тумане меня не видно. Кореш тащит. Сверток у нё в руках. И легавые остаются с носом.»
Он почувствовал глубокое успокоение. Он уже испытывал подобное необычное чувство у подножия одной из двух массивных башен, образующих ворота порта в Ля Рошели. Это было ощущение силы и бессилия одновременно. Довольство собой проистекало из сознания того, что эта высокая башня являлась символом мужественности, ибо, когда у подножия башни он раздвигал ноги, чтобы помочиться, она казалась ему продолжением его члена. Вечерами после кино, когда вместе с двумя или тремя своими товарищами он мочился около нее, он обменивался с ними шутками:
— Вот что подошло бы Жоржетте…
— Если бы у меня в штанах был такой же, все шлюхи в Ля Рошели были бы мои!
— Ты имеешь в виду этот лярошельский х…?
Но оставшись один, неважно, вечером или днем, он испытывал сильное волнение. Расстегивая и застегивая ширинку, его пальцы как бы бережно прикасались к сокровищу, к скрытой душе гигантского члена, этот каменный фаллос казался ему воплощением его собственной мужественности, но в то же время он готов был с покорностью смириться перед спокойным и несравненным могуществом неизвестного ему самца. Кэрель почувствовал, что способен в сохранности доставить груз опиума диковинному чудовищу, состоящему из двух прекрасных тел.
«Только мне потребуется напарник. Без напарника мне не обойтись».
Кэрель смутно осознавал, что исход махинации зависит от напарника, и с удовлетворением чувствовал, как в нем, подобно едва зарождающейся заре, теплится догадка, что это будет Вик, — приобщив его к делу, он сумеет сравняться с Марио и Норбером. Хозяин внушал доверие. А тот другой, пожалуй, был слишком красив для легавого. У него были чересчур роскошные перстни.
«А я? А мои драгоценности? Если бы этот пижон их видел!»
Кэрель подумал сперва о спрятанных в каюте драгоценностях, потом о своей тяжелой и упругой мошонке, которую он каждый вечер ласкал и даже во время сна держал в ладони. Он вспомнил об украденных часах. И улыбнулся: это снова был прежний Кэрель, воспрянувший, расцветший и демонстрирующий нежную изнанку своих лепестков.
Рабочие сидели вокруг белого деревянного стола, стоявшего посреди барака, между двумя рядами кроватей. На столе дымились десять мисок с супом. Жиль медленно снял руку со спины разлегшейся у него на коленях кошки, потом снова опустил ее. Кошка частично оттягивала на себя мучившие его угрызения совести. Она успокаивала Жиля, как пиявка приносит облегчение больному. Жиль уклонился от драки с Тео, когда тот, вернувшись, стал насмехаться над ним. Он невольно выдал себя жалкими интонациями своего голоса, ответив ему: «Не нужно так говорить». Обычно его ответы были сухими и резкими, почти грубыми, и Жилю стало стыдно от того, что теперь его слабый голос, как тень, распластался у ног Тео. Пытаясь успокоить свое самолюбие, он старался убедить сам себя в том, что просто не хочет связываться с придурками, но невольная дрожь, прозвучавшая в его голосе, еще раз напомнила ему о его капитуляции. Остальные? Какое ему до них дело: плевать он хотел на остальных. С Тео все ясно. Тео педик. Он здоровый и вспыльчивый, но он педик. С момента появления Жиля на стройке каменщик взял его под свою опеку, оказывая ему знаки необычного внимания. Он даже угощал его белым вином в кабаках Рекувранс. Но в дружеских похлопываниях стальной руки Жиль порой чувствовал на своей спине — невольно вздрагивая от этого ощущения — какую-то странную нежность. Как будто рука хотела подчинить его, чтобы приласкать. Впрочем, в последнее время Тео был в дурном расположении духа. Он понимал, что его молодость уходит. Иногда на стройке Жиль украдкой смотрел на него — и почти всегда ловил на себе взгляд Тео. Тео прекрасно работал, его всем ставили в пример. Прежде, чем положить камень в цементное ложе, он ласкал его руками, переворачивал, выбирая самую красивую сторону и придавая ему наиболее выгодное положение, чтобы он лучше смотрелся с фасада. Жиль снял руку с шерсти. Он осторожно поставил кошку у печки, на ковер из стружек. По этому жесту окружающие должны были понять утонченность его натуры. Ему хотелось подчеркнуть эту утонченность. Он стремился показать, что не заслужил подобного оскорбления. Он подошел к столу и сел на свое место. Тео сидел к нему спиной. Жиль видел, как его густая шевелюра свисает над белой фаянсовой миской. Он смеялся и разговаривал с приятелем. Отовсюду раздавалось громкое чавканье густым и горячим супом. Поужинав, Жиль встал первым и, сняв свой свитер, торопливо стал мыть посуду. В расстегнутой на груди рубашке с закатанными выше локтей рукавами, с красным и мокрым от пара лицом и погруженными в жирную воду голыми руками он стал похож на молодую посудомойку из ресторана. Он чувствовал, что больше не является рабочим. На некоторое время он превратился в какое-то странное двуполое существо: юношу и служанку каменщиков. Чтобы ни у кого не возникло желания пощупать его или со скабрезным смехом похлопать по заднице, он старался делать как можно более резкие движения. Он вытащил из жирной и ставшей уже отвратительно теплой воды потрескавшиеся от цемента и гипса руки. Трещины на руках были забиты белым веществом и почти замазаны цементом, и ему стало жалко своих рабочих рук. Последние несколько дней Жиль чувствовал себя настолько униженным, что не мог позволить себе думать о Полетте. И даже о Роже. Он не мог думать о них с нежностью, потому что чувство его было запачкано унижением, к которому примешивалось что-то вроде тошнотворного испарения, отчего любая его мысль искажалась и разлагалась. Временами он даже начинал испытывать к Роже ненависть. Теперь ненависть находила в его душе благодатную почву, так как помогала забыть о пережитом унижении, загнать его в самый отдаленный уголок сознания, откуда оно, однако, продолжало периодически напоминать о себе с неотступной навязчивостью абсцесса. Жиль ненавидел Роже за то, что тот был причиной его унижения. Он ненавидел его смазливое личико, ставшее объектом злых шуток Тео. Он ненавидел его за то, что тот явился на стройку. Он улыбался ему в тот вечер, когда пел на столе, только потому, что один Роже знал, что это любимая песня Полетты, которую та часто напевала, и Жиль через него как бы обращался к его сестре: