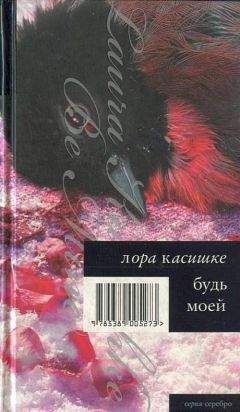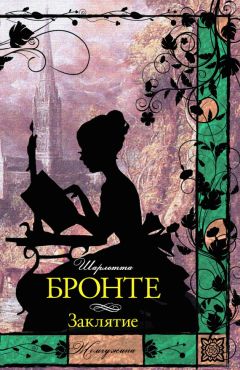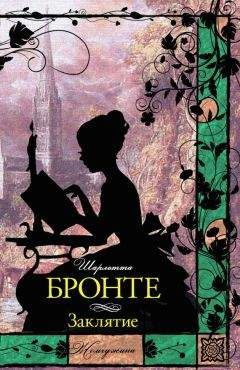Я не сразу поняла, о ком она, и удивилась.
Я что, тоже заснула?
Я подняла на нее глаза.
Мисс Милофски? Кто это? Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что медсестра обращалась именно ко мне, что мисс Милофски — это я.
Нет.
Столько лет минуло с тех пор, как я была мисс Милофски — незамужней девицей, носившей отцовскую фамилию, — но все же на одно мгновение я снова увидела, словно озаренную яркой вспышкой, ту самую мисс Милофски, что сидела в регистратуре у зубного врача, где старшеклассницей подрабатывала во время летних каникул. Одета слишком вызывающе — для этой работы, для приемной дантиста, обслуживающего достопочтенных матрон, для этого консервативного городка, где она жила. Слишком коротенькие юбочки, слишком прозрачные блузки, слишком открытые платья без бретелек. В конце концов медсестра — женщина среднего возраста — отозвала ее в сторонку и шепнула, что доктор крайне неодобрительно высказывался по поводу ее внешнего вида. Я посмотрела на медсестру. И ответила:
— Нет. Я не останусь на ужин.
Вдруг я поняла, что краснею.
Забавно… Одно воспоминание об этом эпизоде («Тебе бы следовало одеваться менее…» — она так и не смогла договорить заготовленную фразу до конца) заставило меня покрыться краской стыда.
В груди стало жарко — как тогда. Или по-новому?
Я натянула свитер, чтобы прикрыть ключицы.
Медсестра ушла так же быстро, как и пришла.
Отец все еще глубоко спал. Я оглядела комнату. Она была практически пуста. Ему никогда не нравились ни постеры, которые я приносила, ни даже календари, и однажды он заявил: «Пожалуйста, ничего не вешай на стены».
На ночном столике стояло радио. И лежала Библия (не его Библия, здесь у каждого такая — дело рук «Гедеоновых братьев»). Серебряный рожок для обуви на столе рядом со стулом. И кто-то поставил в пластиковую чашку на подоконнике красную розу с массивным бутоном.
Кто?
Может быть, кто-то из медсестер или санитаров проникся особой симпатией к моему отцу? Или психотерапевт? Или какая-нибудь дама из местного прихода, навещающая стариков?
Это была разновидность роз, которую за пару долларов можно купить в любой бакалейной лавке, — мутант с огромным ослепительно красным бутоном. Такие розы не растут в дикой природе. Ее породили наука, торговля и природа вместе взятые. Она опасно накренилась через край чашки, в которой стояла, и, пока я смотрела на нее, мне казалось, что бутон становится все тяжелее и тяжелее, словно налитый своей синтетической красотой.
Стебель у нее был слишком длинный, и я поняла, что в чашке недостаточно воды, чтобы удержать его в равновесии.
Я встала и сделала шаг к подоконнику, но опоздала.
Стоило мне двинуться к ней, как чашка с цветком опрокинулась на пол (из-за чего? из-за силы притяжения? или под воздействием моего пристального взгляда?), и вода забрызгала папины тапочки.
Лепестки, на поверку оказавшиеся далеко не такими свежими, как выглядели, почти не держались на цветоложе и рассыпались по линолеуму, напоминая ошметки, оставшиеся от кровавой и жестокой расправы. Разорванная «валентинка», крохотная красная птичка, растерзанная голодными старыми птицами, убийственная схватка между цветами. Отец проснулся, мигнул глазами, но ничего не сказал.
Я убрала остатки и выбросила их в мусорное ведро, а потом повела папу вниз на ужин.
(Кто ужинает в половине пятого?)
Затем я ушла.
В аэропорту.
Высокий стройный юноша во фланелевой рубашке с вещевым мешком в руках.
Разве это мой мальчик?
Прошло меньше двух месяцев с тех пор, как я видела его в последний раз, но, глядя, как он в наброшенной на плечи кожаной куртке получает багаж, я испытала чрезвычайно болезненное чувство, что отправила в Калифорнию свое дитя, а вместо него вернулся незнакомец.
— Мам, — сказал он, направляясь к нам. — Пап.
Я взглянула на Джона, который вовсе не казался ошеломленным или хотя бы удивленным, а просто был счастлив видеть сына.
Чад поцеловал меня в щеку. От него пахло самолетом — обивкой, эфиром, одеждой других людей. Он положил руку на плечо Джона. И сказал, подначивая, как будто меня здесь не было:
— Что это с мамой?
— Она просто очень счастлива тебя видеть, — ответил Джон. Их старая шутка: мама плачет, когда она счастлива. Сентиментальные поздравительные открытки ко дню рождения, церемония вручения диплома, младенческие фотографии Чада.
Но я не плакала. Я пристально всматривалась. Я была равнодушна. Чувствовала, что продолжаю высматривать, когда же появится мой сын.
Пока мы ждали автобуса, чтобы добраться до гаража, где Джон оставил машину, я увидела женщину с маленьким мальчиком.
Девять? Десять лет?
Короткая стрижка, кривые зубы, штаны на дюйм или два короче, чем надо. Он держался за ее рукав, выглядел уставшим и взволнованным, и я еле удержала себя от непреодолимого стремления пойти к ним, наклониться, ощутить запах, исходящий от головы этого мальчика, приложить лицо к его шее и сказать его матери…
Что?
Что я могла бы сказать его маме? У вас мой сын?
Или старый добрый совет, который я столько раз давала, — они растут слишком быстро, наслаждайтесь этими днями?..
Но как можно наслаждаться днями, которые стремительно проносятся мимо? Я любила его каждую секунду, и все же эти секунды проплывали надо мной подобно стае гонимых ветром наручных часов, секундомеров и будильников, они летели, пока я упаковывала для него ланч или слонялась без дела, поджидая, когда он вернется из школы, пока ставила перед ним тарелку с макаронами и сыром.
Нет. Заговори я с мамой этого мальчика, я бы не нашлась, что ей сказать.
Март вступил в свои права — яростный, как лев. Вчера была снежная буря.
Джон отправился на работу в самую непогоду — его «эксплорер» большим белым квадратом влился в гигантский белый мир, — а я осталась дома с Чадом.
Приблизительно час мы играли за кухонным столом в покер. Он победил, как всегда, начиная лет с восьми. Сама я так и не освоила искусство блефа — бесстрастность, с какой хороший игрок в покер смотрит в свои карты, невозмутимость, с какой он выбрасывает в середину стола синие и красные фишки, провоцируя противников на более высокие ставки. Джон и Чад всегда говорили, что им ничего не стоит прочитать у меня по глазам, что за карты мне выпали. Как повелось, в конце игры все фишки достались Чаду.
— Давай лучше сыграем в «Войну», — сказала я, бросая карты в центр стола. — Это единственная игра, в которую я хоть раз выиграла.
— Ты, мам, не обижайся, но это только потому, что «Война» — игра, построенная на случайности. Тебе нужно развивать в себе способность морочить людям голову. А ты слишком прямолинейна.