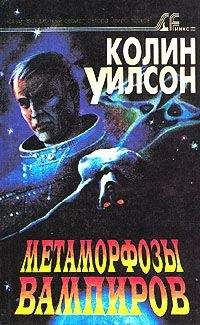— Довольны? — с улыбкой спросил К-17.
— Да-а, — только и протянул Карлсен, — ощущение не для слабонервных. Но вы же говорили, ньотх-коргхаи бесплотны?
— Такими они казались на Земле, из-за того, что были на более высокой вибрационной волне. Хотя себя они считали толанами.
— Но потомки-то их, эти женщины, с виду вроде бы люди как люди.
Овальные глаза К-17 округлились еще сильнее — ни дать ни взять испуганный медвежонок коала.
— Вам что, никто и не объяснил? — Карлсен мотнул головой. — Но вы же были в музее на Криспеле! Куратор что, не рассказывал вам о раздоре с толанами?
— Так, упомянул слегка.
К-17 покачал головой:
— Засмущался, должно быть.
— С чего?
— Из-за чего? Толаны изгнали эвату из-за того, что считали их безнравственными и растленными.
— Об этом он мне сказал, но не объяснил почему.
— Разве не понятно? Ньотх-коргхаи преобразовали неандертальцев тем, что входили к ним в тела и вызывали сексуальные грезы…
— Это я понял.
— А включившись в это, и сами пристрастились к сексуальному наслаждению.
— Но ведь и толаны не были его лишены?
К-17 покачал головой.
— Только не на том уровне. Их удовольствия находились на более высокой шкале телесных ощущений. Им не хватало той сугубо физической интенсивности человеческого экстаза. Удовольствие толана, если так говорить — это квартет Бетховена, а человеческая страсть — это бетховенская симфония. — Он улыбнулся удачному, как ему самому показалось, сравнению.
— Так и не вижу, что в этом возмутительного для толанов.
— Да то, что человеческое наслаждение основано на чувстве запретности.
— Я это понимаю.
— Тогда надо понять и то, почему толаны относились к сексу пуритански. Они считали, что природа допустила ошибку, основав секс на запретности. Секс, по их убеждению — удел лишь брачных пар, и по идее ему отводиться лишь роль размножения, никак не удовольствия.
— Но толанам же нравилось предаваться…
— Действительно. Но они считали это своего рода детской слабостью и тяготились тем, что ее не переросли. Точно так же считали и ньотх— коргхаи, когда прибыли на Землю. И тут, начав обучать неандертальцев фантазиям, они открыли для себя в сексе неожиданное наслаждение. Оказалось, что человеческое тело куда лучше приспособлено для сексуального удовольствия, чем тело толана, и стали по большей части пребывать в телах людей. Для человеческой эволюции это обернулось благом, а для ньотх-коргхаи крахом.
— Но отчего? Не пойму.
— До того как пристраститься к сексу, ньотх-коргхаи были близки к четвертому вибрационному уровню эволюции. После этого они скатились на второй.
Карлсен растерянно развел ладони. Все его либеральные принципы восставали против такого довода.
— Да не поверю, чтобы секс действительно был чем-то греховным!
Каджек перетерпел его несдержанность.
— Поверьте мне, вы заблуждаетесь, в самом что ни на есть научном смысле. Вам Ригмар демонстрировала психограф?
— Да.
— Тогда вы видели: когда на предмет направляется сексуальная энергия в чистом виде, она насыщается черной энергетикой — желанием к запретному. Ученый-толан однажды провел ряд экспериментов над подростками-толанами. Им внушили запрет на ряд предметов, даже таких невинных как «эсковер», — что-то вроде сладкого картофеля, — и зонты. Через несколько недель у подопытных возникало сексуальное возбуждение при виде эсковеров и зонтов. Ученый неоспоримо доказал, что половое влечение основано на обусловленности, и предмет здесь безотносителен.
— А вампиры об этом знают?
— Вы имеете в виду, гребиры? Конечно.
— И им безразлично сознавать, что наисильнейшее их побуждение основано на иллюзии?
— Ну и что? На Земле кто-то придал бы значение, начни вы убеждать людей, что секс основан на иллюзии?
— А-а, так на Земле-то секс имеет практическую цель — продолжение рода. Здесь же, на Дреде, такой цели нет. Гребиры даже не живут со своими женщинами. Вампиризм у них напрочь деструктивен.
— Но так было не всегда. Начать с того, это был вопрос жизни и смерти. Вы забываете, какая катастрофа постигла их на пути домой.
— Черная дыра? Так это был не вымысел?
— Ни в коем случае. Вы еще и сомневались?
— Я думал, в черной дыре не может уцелеть ничто.
— Четыре корабля из экспедиции не уцелели. Пятый выжил лишь от того, что угодил вокруг нее на орбиту. Они думали, что гибель в конце концов уготована и им. Но оказалось, не так. Через тысячу лет черная дыра исчезла, — выпала из нашей Вселенной, — и они оказались вдруг на свободе. Но они уже израсходовали всю энергию на оставшиеся четыреста световых лет пути. Зависли в космосе, в полном изнеможении. Им было ясно, что единственная надежда выжить — это найти миры с развитыми формами жизни и поглотить их жизненную энергию. Так эти уцелевшие сделались «уббо— саттла», губителями жизни.
— Но они возвратились-таки на эту планету?
— В конце концов, через две с лишним тысячи лет, им удалось накопить достаточно энергии для возвращения. Они ожидали, что сородичи им обрадуются. Так оно вначале и было, однако, вскоре ньотх-коргхаи почуяли: что-то здесь не так. От уббо-саттла, по их мнению, как будто несло мертвечиной. Уббо-саттла показались им такими несносными, что они предпочли перебраться на планету-близнец, Ригель-10, оставив Дреду во власти этих «губителей жизни». Уббо-саттла какое-то время умоляли их вернуться, помочь им восстановить четвертый вибрационный уровень. Но, в конце концов решили, что уж лучше оставаться как есть.
Карлсен лишь изумленно покачал головой.
— Они предпочли остаться на более низком эволюционном уровне?
— Они теперь так не считают. Твердят, что цель эволюции — достичь наивысшей степени порыва и жизненной силы. Одно из их основных изречений гласит: «Непостижимо, что за выгода в слабости».
— Я, в общем-то, не могу с этим не согласиться.
— А-а, только порыва-то и жизненности они достигали исключительно через агрессию. На этой планете водятся очень даже опасные особи, — ульфиды, гриски, варбойги, — так уббо-саттла покорили их всех. А затем возвели себе в честь триумфа громадный монумент — город Гавунду.
— Можно на него взглянуть?
— Конечно, — К-17 коснулся пульта.
И вправду, Гавунда зачаровывала. Взору открывался широкая, кроваво— красная панорама, обитаемая невиданными зданиями. Черными перстами вздымались здания-трубы, многие из них вместе, словно пучками. Ясно, что уббо-саттла не терпели плоских поверхностей: все их небоскребы были изогнуты или выпуклы. Хотя по высоте ни одно из зданий не превышало небоскребов Нью-Йорка, внешнее сходство лишь прибавляло эффекта, а контраст между алостью тротуаров и чернотой зданий действовал неотразимо. Все в этой архитектуре дышало каменной грозностью, от которой почесывалось у корней волос.